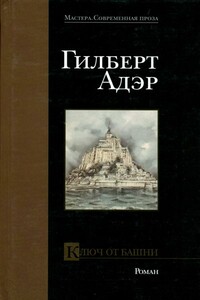Буэнас ночес, Буэнос-Айрес | страница 38
Все, что мне не удавалось совершить в действительности, я совершал в этом так называемом пересказе — трахал, мастурбировал, занимался оральным сексом, даже участвовал во взаимном подпаливании сосков рождественскими свечами (и как только такая шалость пришла мне в голову?). И проделывал все это я со всеми партнерами, каких только мог себе вообразить, — с белыми, с неграми, с мулатами, с азиатами, со здоровенными полицейскими, которым я позволял топтать мое белое как мел тело подкованными гвоздями башмаками, с только что окончившими школу мальчишками в футболках от Лакосты, кашемировых свитерах и новеньких джинсах, собравшимися в Бангладеш или в Бразилию для «завершения образования» (это выражение всегда вызывало во мне детский энтузиазм).
Та зима и пришедшая следом за ней весна были и богаты, и бедны событиями. Моя жизнь действительно, если угодно, катилась по накатанной колее, но для человека, который, как я, всегда страдал от одиночества, колея представляла собой такое уютное и надежное убежище, что я чувствовал себя несчастным, если рутина нарушалась, — Фери брал отпуск, из-за всеобщей забастовки «Берлицу» приходилось на сутки закрыться, или за целый день я ни разу не видел Ральфа Макавоя, дефилирующего по коридору.
Если смотреть на вещи шире, мои личные заботы, конечно, выглядели мелкими, но ведь каждый имеет право — то самое право, которое американцы называют «неотъемлемым» — смотреть на собственные неприятности как на нечто серьезное, не вспоминая при этом о голоде в Руанде и об угнетении Китаем тибетцев (о чем зануда Питер, радикал и флюгер одновременно, никогда не уставал нам напоминать). Даже если моя инициация, в результате которой я стал членом школьной компании геев, и была основана на лжи, я больше не был безбилетным пассажиром мирового корабля. Я поражался тому, как выдуманный мной образ самого себя восстановил мое эмоциональ-ное равновесие. Я стал спокойнее. Я встречал мелкие пакости, которые преподносит нам жизнь, с добродушием. Меня больше не преследовали мысли о возвращении в Оксфорд или о том, чтобы броситься в Сену с моста Александра Третьего, как то было после фиаско с Ивом-Мари. Меня больше не терзала самая мучительная из всех фобий — страх перед любым человеком, который не был мной. Что я сохранил от тех времен? По большей части всякие случайные воспоминания, сами по себе ничего не стоящие, но тем не менее пустившие во мне корни, как это бывает с воспоминаниями, может быть, даже не заслуживающими усилия ума. «Дон Жуан», которого я слушал, сидя в Опере на самом последнем ярусе, так что казалось, стоит поднять руку, и я коснусь расписанного Шагалом потолка. Бесконечные разговоры Ральфа о поисках «безупречной рубашки» — так он называл «безупречного юношу», которым сам был для меня. Смех, который вызвал новичок в «Берлице» — молоденький англичанин в очках, невзрачный и серьезный, который неожиданно спросил, услышав разглагольство-вания Скуйлера по поводу очередной голливудской сплетни, почерпнутой им из «Трибюн», — «Простите меня, а кто такая За-За?» Озарение, после того как за пять месяцев я осилил «В поисках утраченного времени» (на английском, конечно), что если кто-нибудь в разговоре о Прусте упомянет «маленькую мадлен»,