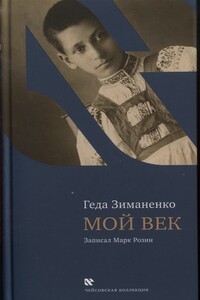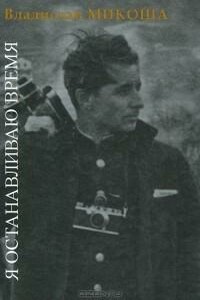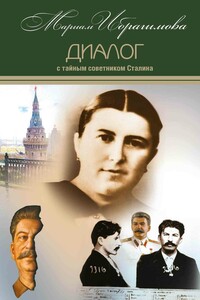Воспоминания | страница 26
– Мадам, поставлено! – обращался он к ней, указывая на стакан. – Алеша, переведи, чтобы кушала.
– Madam, prenez,[92] – переводил танцовщик.
– Ah, merci, monsieur![93] – отвечала француженка, выпивая стакан залпом.
– Люблю! – восклицал Иван Гаврилович, поглаживая ее руку.
– Que ce qu'il dit?[94] – быстро справлялась француженка.
– J'aime,[95] – переводил танцовщик.
– Et moi aussi![96] – весело подпрыгнув, воскликнула француженка.
– Это насчет чего? – спрашивал Иван Гаврилович.
Переводчик не понял фразы и отвечал:
– Да уж хорошо! Помалкивай!
– Может, деньгами хочет попользоваться? Так можно немножко… три синеньких, ежели…
Когда же француженка начинала болтать, переводчик не терялся, а на вопрос Ивана Гавриловича: «Насчет чего говорит?» – отвечал без запинки:
– Шампанского еще просит.
– Вели подавать! – разрешал Иван Гаврилович.
Долго жил Иван Гаврилович в «этом направлении»: бессонные ночи, постоянные «засидки» и «отъезды» стали сокрушать его кованую натуру. Нечистая сила, так называемые чертики уже являлись ему в виде шмелей, жуков, раков; наконец в самый разгар Нижегородской ярмарки его в одном веселом притоне в Кунавине мгновенно обвил зеленый змий и обдержал его три дня.
– Веришь ли ты, – рассказывал он после, – змий, вот как на паперти, на «Страшном суде» нарисован, – зеленый братец ты мой!
Не с того ли времени идет поговорка: «Напиться до зеленого змия»?
Зеленый змий сильно подействовал на Ивана Гавриловича. Он одумался, или, по его выражению, «всем пренебрег», и, вспоминая минувшие дни, говорил:
– Ежели перелить по бутылкам все, что я выпил, можно бы погребок открыть и торговать в нем года три.
Старуха мать предлагала ему жениться и невесту нашла с «большими деньгами», но Иван Гаврилович рассудил так:
– Ежели, матушка, жениться мне из своего общества, так уж я с малых лет не на тот фасон себя определил; а ежели Матильду какую (Матильдами он называл женщин некупеческого круга) в наш дом пустить, так она порядков ваших не выдержит – уйдет. Лучше я поеду – посмотрю, как в чужих землях люди живут.
И, прихвативши еврейчика – студента в качестве переводчика, уехал за границу. Был в Египте, воздымался на пирамиды, восходил на Везувий, был в Риме, «кружился» (по его выражению) два месяца в Париже, «все там произошел», даже «полюбопытствовал, как одного разбойника казнили», и вернулся в Москву в широкой соломенной шляпе, красном галстуке, клетчатой жакетке и в необыкновенно узеньких брюках. Засмеялось захолустье, полетели во франта колкости и остроты от фабричных. Прошел даже слух, что его вызывал обер-полицеймейстер Цынский и внушал ему, чтобы он не страмил своего роду и одевался бы как надо, а он не токма что не послушался, а напротив того – стал по Сокольникам верхом ездить. По смерти матери Ивану Гавриловичу окончательно никто не мешал жить, как его душе угодно. Все ютившиеся около самой в верхнем этаже старинного дома старицы, начетчицы и читалки отрясли прах от ног и разошлись питаться около других благодетелей. Да он и сам остепенился; ему опротивела дикая жизнь. И хотя по вечерам у него и собирались прежние бражники, но уже угощение бывало «на благородный манер». За ужином явилось menu, которое подавал гостям повар в белой куртке и колпаке. Всякий гость знал, что за ужином будет «шиврель с дикой козы», «судак овамблям» и т. п. Сам хозяин за стол не садился, а важно, в коротеньком пиджаке и белом жилете, расхаживал по столовой и распоряжался.