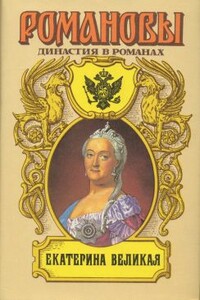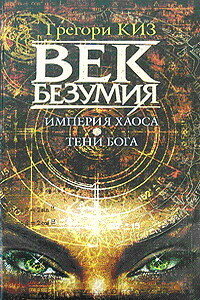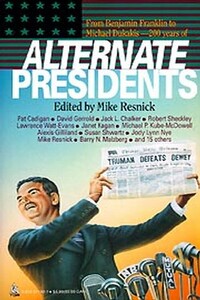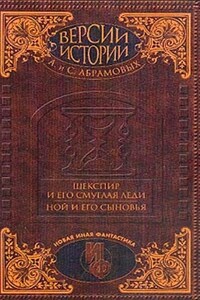За чертополохом | страница 23
— Что!? — смеясь и прихихикивая, воскликнул Дятлов. — Любовь? Христианство?.. Евангелие?.. Какая чушь. Глупая романтика. Романтика пятнадцатилетнего мальчика о светозарной многосиянной райской любви… Ничего этого нет. Я с двенадцати лет знаю, что все это одна физиология. Сказали тоже! Любовь!
— Я не про такую любовь говорил, — сказал, краснея, Коренев. — Я говорил о любви к ближнему.
— Вздор, — сказал Дятлов. — Здоровый эгоизм есть любовь к ближнему. Я делаю вам приятное потому, что ожидаю от вас другого приятного.
— Это холодный ужас, — прошептал Коренев.
— Это — жизнь, — сказал Дятлов.
— Садитесь, Петр Константинович, — сказала Виктория Павловна. — Пейте ваш чай, и будет вам шуметь. Я обожаю Евангелие, хотя и не очень его понимаю. Или перевод плохой, или что-то не так. Но, пожалуй, из всех философий самая тонкая и воздушная — философия Христа.
— Ах! — сказала Екатерина Павловна. — А эти церкви-музеи! Нет, это что-то восхитительное. И подумаешь, люди двадцать веков верили, молились, жили этим…
— Живут и теперь, — убежденно сказал Коренев.
— Где же? — спросил Дятлов. — Как исторический обряд кое-что оставлено.
— В России, — убежденно сказал Коренев.
— А все-таки вертится, — сказал старичок.
— И действительно, вертится, — сказал Коренев. Пусто было у него на душе. Слова всех этих людей гулко ударялись в него, как голос в пустую бочку, и больно звенели в ушах… «Нет, — думал он, — на восток… на восток…»
IX
Эльза сидела в мастерской у Коренева. На мольберте стояло почти законченное полотно. По старой гравюре Коренев воспроизвел картину «Крючник». С полотна на Эльзу смотрело широкое, румяное, обросшее красивой бородой и густыми русыми кудрями лицо. Мощная мускулатура чувствовалась под розовой рубахой и жилеткой с мешком. Глаза ласково улыбались, точно стыдился этот мужик своей красоты и силы.
— Таких людей уже нет, — раздумчиво сказала Эльза, следя за быстрыми мазками кисти Коренева. — Из вас выйдет очень талантливый художник, Петер. Зачем вы хотите уезжать?
— Фрейлейн Эльза, вы не рассердитесь и не обидитесь на меня? — сказал Коренев и взял чистый холст, натянутый на подрамник.
Он стал быстро, широкими, грубыми мазками набрасывать рисунок. Ничего не говорил. Слышно было, как трещал и ломался уголь в его нервных руках, как шуршала по холсту тряпка, стирая линии, мазала кисть. На холсте стало вырисовываться бледное лицо, лучистые синие глаза с какой-то неземной святостью засияли на полотне из темных и длинных, кверху загнутых ресниц, темные брови легли дугами над ними, обрисовался тонкий нос и чуть открытые пухлые губы. Резко, большими мазками стали проявляться две густые косы из-за плеч, спускавшиеся на грудь. Тонкие руки с маленькими кистями были опущены вдоль тела. Белый хитон, подхваченный на шее низким вырезом в складку и покрытый восточным золотым рисунком, покрывал стройное тело.