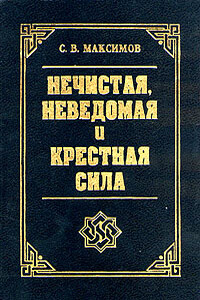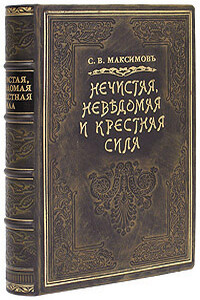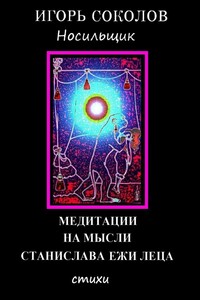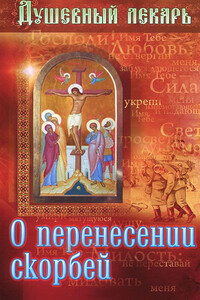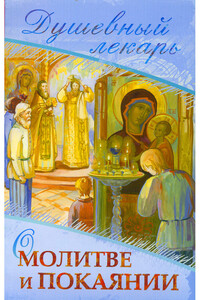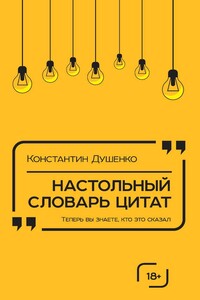Крылатые слова | страница 106
ПОКАМЕСТ
Здесь, между прочим, следует искать происхождения слова «покамест», как старинного, оставшегося кое-где в ненарушенной форме: «ждали, по ка, — подождем и по та», т. е. подольше — слышится зачастую. «По ка (по какое место) укажут, по та и отрубишь» — обычно говорят плотники северных лесных губерний. «По ка мест живется, по та мест и жить стану», а индо уже подсмененное общеупотребительным наречием пока, покудова, на северо-востоке России дока, докуда, поколь, поколе, на юго-западе — поколь, покелева, покелича, покедь, поколи; на юге — покаме, покамест, покилича, а у белорусов и малороссов по ки и допо ки. По ка место, как сложное существительное, издревле склоняется в любимой и более употребительной форме множественного числа, например, как в старых актах, «по кех мест те судные деньги (т. е. взятые взаймы) за ними, исполщиками (половиншиками в работах), побудут (вперед за условленную работу), а где ее запись выляжет, тут по ней суд», и проч.
Или так, как поступал Петр Великий.
Он что-либо прикажет исполнить, да непременно тотчас же и пристращает: «Если в срок не исполните, то велю сковать за ноги и на шею положить цепь и держать в приказе «покаместо» (пока) выписанное исполнится». Такой, между прочим, указ послал он за своею подписью архангельскому вице-губернатору ближнему стольнику Ладыженскому.
Кому рассказывают про такое дело, которое он отлично знает и помнит, видел его очень ясно, своими глазами, а не усвоил по слухам, тот обыкновенно (в лесной Северной России) отвечает:
— Не рассказывай: я на межевой яме сечен.
Хотя это и не требует дальнейших разъяснений в виду того, что межи или границы земельных угодий обыкновенно обозначаются «гранными ямями», тем не менее такое выражение обязывает остановиться на весьма важном народном обычае. Гранные ямы — такие места, которые не только представляют собою жизненный глубокий интерес для деревенских соседей в вопросе владения землею, водою и лесом, но имеют значение такого исторического явления в народной жизни, которое требует изучения, как самобытное.
«Гранные ямы» прежде всего замечательны тем, что практический смысл прорывших эти ямы первыми на пользование будущих поколений научил зарывать сюда для признака уголья. Чтобы зарубить на память и закрепить такую надежную примету, что называется сверх сыта и окончательно, прикидывали сюда черепки горшков, как не гниющие (успевшие сохраниться в курганах до наших времен цельными). Рассчитывали на долговечную прочность также и углей, так как хорошо выжженный древесный уголь не гниет. «Уголь такой же негной, как нетленен и черт» (по пословице), особенно если первый, будучи положен в виде дров в ямах, истлеет без пламени, не сгорая, а медленно под костром земли, окладенной дерном. Уголь там, как говорят лесовики, тает, т. е. поспевает от одного жара: дерево изникает на месте, как бы воск или олово. Тогда и вторые, т. е. черти, по народному поверью, съумеют оценить достоинство такого вещества. «На межевом бугре, на угодьях, да на черепках, черти в свайку играют», думают суеверы, и пословично говорят: «когда нечем черту играть, так угольем».