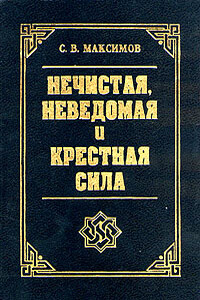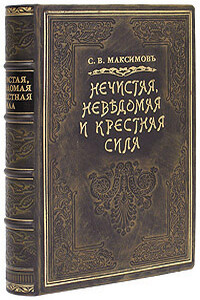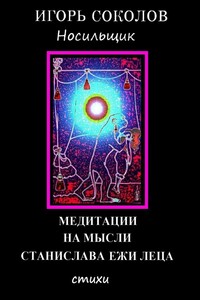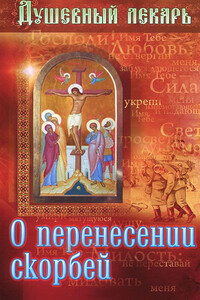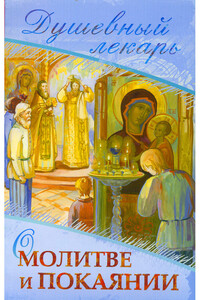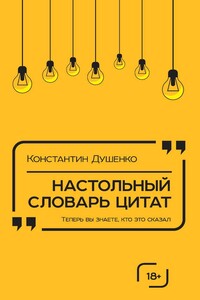/2 — ю). Во всяком случае, «мать при сыне — не наследница», точно так же, как «сын наследует отцу, но отец не наследует сыну». Мать хотя и великий человек (в мучениях родит, грудью кормит), но отец стоит выше матери: он родит, дети — его кровь, он властитель и хозяин, как Бог надо всем светом. На этом основании женщина и в семейном быту, и в юридических правах весьма ограничена, сильно обездолена и всегда обижена, особенно при имущественных разделах. Немудрено, но очень долго, приводить все многочисленные доказательства тому, что «женский быт — всегда он бит» или «бей шубу — теплее, бей жену — милее» и т. п. При свекрови сноха — подчиненная безответная работница, с распределением очереди (обычно по неделям) для отправления обязанностей стряпухи. Младшей снохе труднее всех, потому что она всех ниже значением, а старшая сноха, будь она даже вдовою, сохранняет свое почетное положение и ее больше слушают. Только в том случае младшая поднимается на одну ступень выше, когда вернется в семью родная дочь, выданная на сторону замуж и успевшая овдоветь. При дележе, по смерти родителей, сестры при братьях должны довольствоваться тем, что захотят им выделить на справу к свадьбе, если мать при жизни своей не успела исполнить свою главную и священную обязанность — выдать дочь замуж (хлопоты о женитьбе сыновей лежат на отцах). Только в том случае делится имущество на равные части, когда наследницами являются дочери. Во всяком случае, до сих пор нерушим вековечный закон, выраженный пословичною формулою: «сестра при брате — не вотчинница». Отсюда же становится понятным иносказательное выражение, наше крылатое слово — «не в кольцо, а в свайку» идет имение, т. е. поступает в собственность сына, а не дочери. Это значит, что заготовленное и сбереженное родителями имущество всего чаще не причащается, но проматывается по закону: «отцы наживают, детки проживают», и по пословице: «наживной рубль — дорог, даровой рубль — дешев».
как живое и живучее слово, перестанет считаться непонятным или дешевого смысла, если взглянуть на него, как на древний юридический термин. Ясно, что в спорах о владении землей установилось естественным образом право владеть и водами, протекающими в границах земельного участка. По земле присуждалась и вода. Вся трудность, вызывавшая путаницу отношений и споров, заключалась в точном определении межей, когда живые урочища не помогали резкими особенностями и яркими очертаниями и приметами. В таких спорах обыкновенно являлись решителями дела указания стариков: приводилось свидетельствовать с соблюдением некоторых таинственных обрядов. В Каргополе сохранился самый старинный: доказывающий свое или чужое право кладет на голову кусок дерна, т. е. «мать сыру-землю», и с ним обходит по граням. В других местах дёрн успели заменить честною иконою. В древней Ростовской земле епископ посылал священника с крестом св. Леонтия. Крест ставился на спорную землю и свидетели должны были, удостоверясь крестом ростовского первомученика, определять: которой из двух тяжущихся сторон должна принадлежать земля. Таким образом и в Ростовском княжестве «развод земли» производился так же по совести, «а не как в других местах (говорит описатель чуда св. Леонтия), — где обыкновенно суды и тяжбы производились, и лилась кровь». Самое же право владения определялось выражением: «куда топор и coxa ходили» — по ту грань в лесу и на полях надо считать землю собственностью лица, поселившегося и приложившего труд на таких новях.