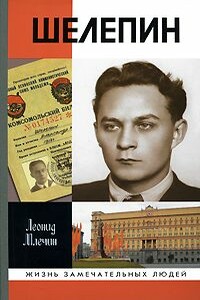Александр Николаевич Островский (По моим воспоминаниям) | страница 10
На первый взгляд Александр Николаевич показался нам, судя по внешнему виду, замкнутым, как будто даже суровым, но, вглядевшись, мы заметили, что каждая черта лица резко обозначена, хотя вместе с тем и дышала жизнью. Верхняя часть лица в особенности показалась нам привлекательною и изящною. Но лишь только развернулся Колюбакин, куда эта вся черствость взгляда скрылась. Глаза сделались ласковыми, исчезло величавое выражение всего лица, и заметная на нем легкая складка лукавого юмора уступила теперь добродушному и открытому смеху. Эта быстрая смена впечатлений в подвижных и живых чертах лица, выражавшаяся неожиданным переходом от задумчивого к открытому и веселому выражению, всегда была поразительна. Мы приняли это в свидетельство, что под обманчивой и призрачной невозмутимостью и при видимой солидности в движениях скрывалась тонкая чувствительность и хранились источники беспредельной нежности, иначе бы он так мягко и ласково не улыбался и не был бы так очаровательно прост. Белокурый, стройный и даже, как и мы все, малые и приниженные, застенчивый, он и общим обворожительным видом, и всею фигурой совершенно победил нас, расположив в свою пользу до последней степени.
Сопоставляя свои первые наблюдения с впечатлениями Горбунова при каждой встрече с Островским, невольно останавливаешься на тождестве чувств.[20] <…>
Впоследствии и вскоре Островский поспешил доказать и многоразличными фактами убедить всех нас в том, что он был поистине нравственно сильный человек, и эта сила соединялась в нем со скромностью, нежностью, привлекательностью. Кроткая натура его обладала способностью огромного влияния на окружающих. Никогда ни один мыслящий человек не сближался с ним, не почувствовав всей силы этого передового человека. Он действовал, вдохновлял, оживлял, поощряя тех, кто подлежал его влиянию и избранию. Дружба его умножала нравственные средства, подкрепляла нас в наших намерениях, возвышала и облагораживала наши цели и давала возможность действовать с большою способностью в собственных делах и с большою пользой для других.
При таких высоких свойствах Островского приблизившиеся к нему уже не отставали от него, пребывая верными ему до конца. Вглядываясь во всех окружавших его и близко стоявших к нему и вспоминая каждого в лицо и по имени, вижу не один десяток таких, которые, как звенья в цепи, как плетешек в хороводе, цепляясь один за другого, тянулись сюда неудержимо. Все твердо знали, что здесь почувствуют они себя самих в наивысшем нравственном довольстве, утешенными и успокоенными. Никогда и никому ни разу в жизни Александр Николаевич не дал почувствовать своего превосходства. Он был уступчив и терпелив даже и в тех случаях, когда отысканная им или только обласканная личность в самобытности своей переходила границу и вступала в область оригинальности, вызывавшей улыбку или напрашивавшейся на насмешку, — словом, когда этот оригинальный человек начинал казаться чудаком. Конечно, это было на руку драматическому писателю, одаренному тонким чутьем наблюдателя, и заявляемые странные уклонения в характерах принимались про запас для будущих работ как материал для комедий; но самый наблюдаемый субъект не испытывал неловкости положения. Не оскорблялось его самолюбие, и он сам не только не спешил отходить прочь, но еще прочнее и душевнее привязывался к наблюдателю.