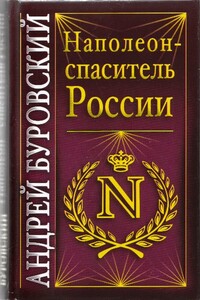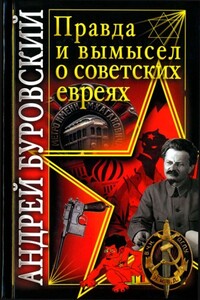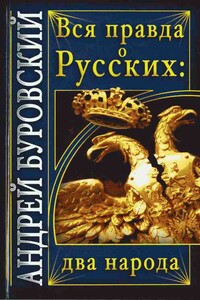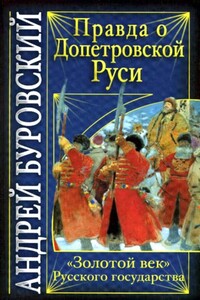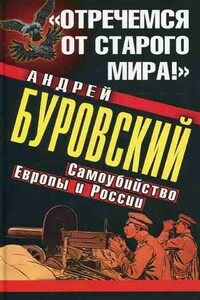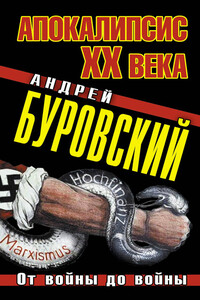Величие и проклятие Петербурга | страница 5
И в начале XVIII, и в начале XIX века русское дворянство было самым богатым сословием. Но в начале XIX века дворянство было не самым закрепощенным из сословий, а самым свободным. Оно вовсе не находилось в конфликте с властями и совершенно не рвалось, как в середине XVIII века, изменять политический строй Империи.
В 1825 году 90% русского дворянства вовсе не хотели введения конституционного строя. Тем более они не поддерживали восстание 14 декабря. Антиправительственный мятеж был полной дикостью для дворян, и хорошо заметно: очень многие испытывали по его поводу совершенное недоумение. Недоумение сквозит даже в строчках А.С. Пушкина:
Ища причины восстания декабристов, историки прошлого и настоящего выдвигали самые фантастические причины восстания. От «высокой идейности» и «понимания правды народа» (классическая версия марксистов) и до масонского заговора баронессы Де Толль[9].
Историки пытались доказать даже, что сохранение крепостного права было уже невыгодно дворянству. То-то экономически подкованные декабристы и ломанулись раскрепощать мужиков, крепить русский капитализм. Выглядят эти построения не очень убедительно — ведь хотели повстанцы вовсе не только личного освобождения крестьян и уж, конечно, не собирались делиться с ними политической властью. Так что объяснить действия декабристов никакими экономическими или социальными причинами не удается, и опять повисает недоуменное молчание...
На мой же взгляд, есть прямой смысл заметить культурный раскол дворянства: той кучки, что тесно связана с Петербургом, и «всех остальных». И получается — это бунт не только социальный и политический, но и региональный. Бунт людей, воспитанных Городом-на-Неве. Эти люди даже не очень виноваты: у них сами собой сложились какие-то особые убеждения, совсем необычные для их сословия. Конечно, московское и провинциальное дворянство тоже не виновно в том, что никаких таких конституционных прав и свобод оно не понимает и не хочет. Просто оно совсем другое.
По понятным причинам мы ничего не знаем — а отличался ли психотип петербуржского простолюдина того же начала XIX века от психотипа москвича, ярославца, тверича? Предположить отличие нетрудно, но ведь материалов нет, и до изобретения «машины времени» таких материалов и не будет.
В начале — середине XIX века дворянский слой Петербурга становится шире, так сказать, «демократичнее». Рождается более широкий слой петербуржцев, включающий уже тысячи людей. Начинает свое существование культурно-исторический тип, который проживет больше столетия, а последние носители этого типа умрут уже после Второй мировой войны.