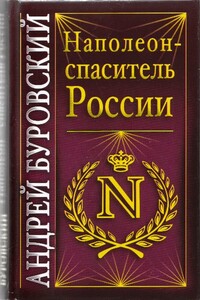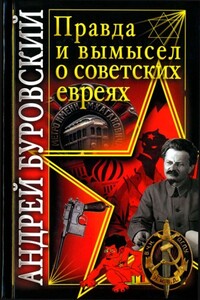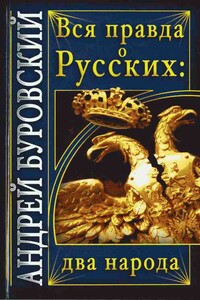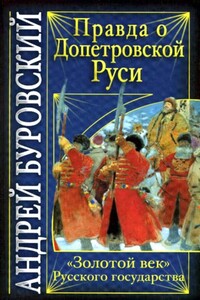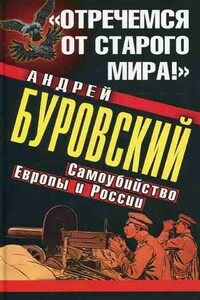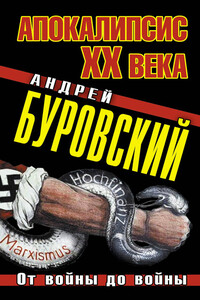Величие и проклятие Петербурга | страница 14
Во-вторых, это ведь не всегда бывает, чтобы творцы культуры имели возможность не тачать сапоги или вывозить мусор, а получать плату за совсем иной труд. Холст, подрамники, мастерские и уж тем паче бронза — стоят денег. Как и типографии, и металлические литеры, и краска, и бумага, превращаемая в книги.
Если денег на все это нет — культуроносный слой поневоле будет вести самое скромное существование. Многие вообще не сделают в своей жизни ничего, иные состоятся вполсилы.
Но получается — в некоторых городах этот слой может появиться в любую минуту, а как появится — сразу активен, вне прямой зависимости от городских вольностей или скопленного достояния. В таком городе постоянно возникают разного рода культурные новации, и в самых разных сферах жизни — от научных открытий и до религиозных переворотов, от усовершенствований в музыкальных инструментах и до новых форм общественной организации. Жить в таких городах одновременно интересно и тревожно.
А в других городах генезис культуры происходит вяло, в основном за счет приезжих или за счет финансовых вливаний. В любое место ведь можно привезти людей откуда угодно, и пока им платят, воспитанные в других местах художники, ваятели, писатели и ученые не разбегутся, а будут творить там, куда их привезли.
С XV в. Берлин — столица: сначала Бранденбурга, потом — Пруссии. В город долгое время была немалая эмиграция. Например, в XVIII в. треть населения Берлина составляли беглые из Франции гугеноты... Но ведь это же факт, что роль Берлина как города культуры, невзирая на его «столичность», на многочисленные финансовые вливания и не худших по качеству эмигрантов, многократно меньше, чем того же Мюнхена, Кельна или даже маленького Дрездена.
Опасаясь обидеть жителей других промышленных гигантов и древних столичных городов, не стану уточнять, которые из них вызывают у меня в памяти древнюю поговорку про Федору, которая велика... Лучше обратимся к Петербургу.
Уже говорилось о потрясающей способности города «включать в себя», ассимилировать вливающихся в Санкт-Петербург людей: независимо от роду-племени эти люди поколения через два превращаются в коренных, и притом в преданных городу жителей.
Если брать деятелей культуры, этот процесс начался с уроженцев немецких земель и пылких петербургских патриотов Б.С. Якоби, В.Я. Струве (основавших «петербургские» династии интеллектуалов) и продолжился уже «чисто русскими» С.П. Крашенинниковым, И.И. Лепехиным, М.В. Ломоносовым. И чем дальше, тем больше среди культуроносящего слоя не только «чисто русских», но и «уже встречавшихся» фамилий.