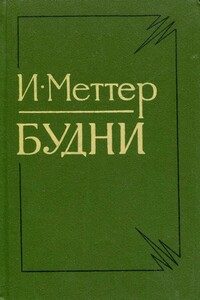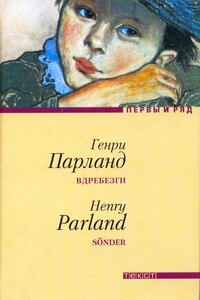Пятый угол | страница 8
Я спокоен за тебя, отец, на том свете. Тебе некого и нечего там бояться.
После пожара мы переехали на Черноглазовскую улицу. Окна нашей квартиры выходили вровень с тротуаром, и я быстро научился распознавать людей по ногам.
Над калиткой нашего дома висела скромная вывеска:
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА ДОКТОРОВ ЖДАНОВА И ГУРЕВИЧ.
Лечебница помещалась в одноэтажном желтом флигеле, обращенном одной своей стороной в сад. Больные, которых в те времена называли запросто — сумасшедшими, — жили в лечебнице подолгу. Большинство из них были тихопомешанными. Добрые и вежливые, они бродили по нашему двору и по саду без всякого присмотра. Забредали они и к нам домой в подвальную квартиру.
Первое время я дичился их, а потом привык. Мне и моим товарищам они не казались такими уж безумными. Интересы и наклонности взрослых чаще всего чужды детям, быть может, поэтому я не всегда замечал в черноглазовских сумасшедших разительных отклонений от нормы.
Заходил к нам в подвал Воробейчик. Мать угощала его чаем с сахарином. Он сидел за столом, церемонно подобрав коротенькие ноги в кальсонах под стул. Кажется, у него была мания величия, но я этого не чувствовал. Очевидно, величие его не обременяло окружающих: оно было настолько для него внутренне бесспорным, что не требовало никаких внешних подтверждений. В этом смысле деликатное безумие великого Воробейчика выгодно отличалось от безумия нормальных людей. Ласково гладя меня по голове, он иногда бормотал речи, обращенные к Учредительному собранию.
Вероятно, каждая эпоха порождает своих сумасшедших: самый замысловатый бред больного мозга есть, в какой-то степени, отражение действительности. Человек сходит с ума на современную ему тему.
За единственным решетчатым окном лечебницы Жданова и Гуревич металась в ночной рубашке растерзанная Соня: в буйном помешательстве ей мерещилось, что ее насилует эскадрон донских казаков.
Привозили к нам больных с Поволжья — они сошли с ума от голода. Их черные обглоданные лица и мучительно безразличные, гигантские глаза пугали меня. Я и не подозревал тогда, что зимой сорок первого года в блокадном Ленинграде у меня у самого будет такое лицо.
Ходил по нашему саду задумчивый молодой человек в белье и в студенческой фуражке. Его звали Жорж Борман. С детской жестокостью мы сперва потешались над ним, но он обезоружил нас своей кротостью и недюжинным знанием математики. В саду, на песке, кончиком обструганной палочки Жоржик Борман, побочный сын знаменитого шоколадного фабриканта, тронувшийся от неразделённой любви, решал нам алгебраические задачи.