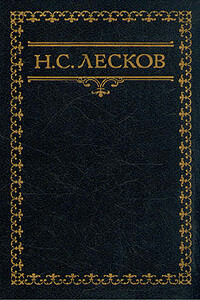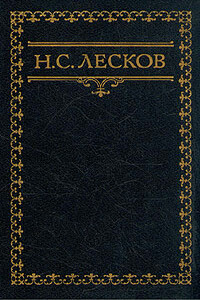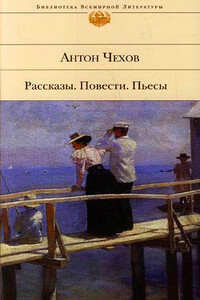В стороне от большого света | страница 19
Я воротился домой совсем иным, нежели каким вышел. Мне казалось, я находился в каком-то золотом сне. Всю ночь я был в жару и бредил князем. На другой день все вчерашнее казалось мне грезой. Греза эта стала, однако, повторяться довольно часто наяву. Двери дома князя отворились для бедного мальчика. Я не мог не заметить, что молодой князь все более и более привыкал ко мне, все более и более любил меня. Старый князь снисходительно смотрел на это товарищество.
Вместе с летними цветами суждено было завянуть и моему счастью.
В одно сентябрьское утро матушка разбудила меня.
— Вставай, Павел! — сказала она, — батька едет в город и отвезет тебя в семинарию. Голубчик ты мой! — прибавила она, заплакав.
Я встал, как ошеломленный; при всем желании заплакать, на сухих, пылающих глазах моих не выступили слезы. И безотчетно глядел я на телегу, нагруженную мешками и мешочками.
Сентябрьское небо было мутно, мелкий дождь с крупой стучал в окна… А еще третьего дня светило солнце, сверкая яркими переливами на пожелтевших листьях… Я снова стал одинок и несчастлив. Машинально простился я со своею семьею, вскарабкался на телегу и бесчувственным взором глядел, как мало-помалу исчезал родной кров.
Батюшка водворил меня у двоюродной сестры своей, жены столоначальника гражданской палаты. Пропускаю все подробности житья моего у нее и учения в семинарии. Я чувствовал, что тратил силы и время. Не стану также говорить о тех порывах сожаления и отчаяния, которые время от времени глухо набегали на меня. Много слез лилось на мою жесткую постель и пестрядинную[1] подушку. Грубы и чужды были мне товарищи, чужд был и я им… Прозвание немца ожило между ними, и к фамилии моей Покровский прибавили г у т.
Через полгода я получил от князя письмо. Оно всегда со мной:
"Бедный мой Паша! — писал он, — как мне без тебя скучно! Я плакал, когда узнал, что тебя увезли. Я думаю, тебе тоже скучно. Меня везут в Петербург, в лицей. Прощай, Паша! не забывай меня, а я тебя никогда не забуду. Пишу тебе тихонько. Ты не пиши мне. Твой Эспер".
Я целовал и обливал слезами это послание. Когда через год меня взяли на вакацию домой, князь был уже в Петербурге. На вакации ждала меня не свобода, не отдых, а тяжкая для меня, непривычного, полевая работа.
Хотя родители мои и делали раза два в лето помочи,[2] но все-таки немало оставалось и нам с сестрами на долю. Для помочан, так же как и здесь, в вашей стороне, варится у нас пиво, покупается вино, пекутся пироги, и одни эти приготовления на неопределенное число доброхотных работников погружали матушку и нас в целое море хлопот и трудов. Помочане вообще работают лениво, потому что работают не из платы, а из одного угощения, и беда, если они к вечеру разойдутся недовольны, то есть не пьяны и не сыты донельзя: в будущее воскресенье, как бы вы ни заманивали их, полосы ваши останутся не выжаты, и вам самим придется убирать все поле. Труды мои в родительском доме прибавлялись по мере того, как прибавлялся счет моих лет. Я не был ленив и не захотел бы сидеть сложа руки, когда другие работают; но физическая деятельность не только не могла поглотить той безумной мечтательности, той пламенной жажды чего-то неопределенного, но лучшего, а еще более раздражала ее. Душа моя и ум, жадный живых познаний, рвались и кипели, заключенные в тесную раму самой бесцветной жизни.