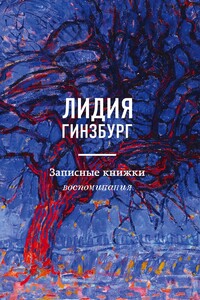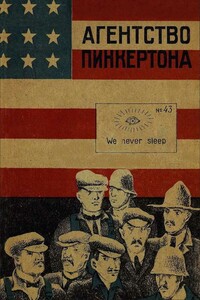О психологической прозе | страница 49
Наиболее конкретным выражением любви оказывается любовь к женщине (так в своих письмах утверждает Станкевич). Философский конфликт, оставаясь философским, в этом плане приобретает психологические черты. Свое увлечение Л. А. Бакуниной Станкевич принял за идеальную любовь, открывавшую возможность идеального брака. Скоро он понял, что ошибся. Согласно этическому кодексу, принятому в кружке, брак без любви был бы величайшим грехом против духа. Меньшим злом представлялась жестокость разрыва. Но разрыв с тяжело больной девушкой приходилось оттягивать, приходилось обманывать (роль столь неподходящая для Станкевича).
По законам дворянской чести Михаил Бакунин должен был вызвать на дуэль Станкевича, обманувшего его сестру. Вместо того он подвергает этот случай философскому рассмотрению, а Станкевич анализирует себя в письме к брату покинутой невесты: "Я никогда не любил. Любовь у меня всегда была прихоть воображения, потеха праздности, игра самолюбия, опора слабодушия, интерес, который один мог наполнить душу, чуждую подлых потребностей, но чуждую и всякого истинного, субстанционального (говоря языком философским) содержания. Действительность есть поприще настоящего, сильного человека, слабая душа живет в Jenseits 1, в стремлении, и в стремлении неопределенном; ей нужно что-то (потому что в ней самой нет ничего определенного, что бы составляло ее натуру и потребность). Как скоро это неопределенное сделалось etwas 2, определенным, душа опять выбивается за пределы действительности. Это моя история; вот явная причина всей беды; то, что Белинскому кажется гениальностью - мерзость просто" ("Переписка...", 650). Станкевич отвергает собственный идеальный образ, предложенный ему друзьями, и изнутри строит другой, в котором господствуют сухость, апатия, холод.
"...Я имею добрых друзей, - пишет он в 1837 году В. А. Дьяковой, которые готовы сказать, что мои потребности слишком обширны, чтобы могли удовлетвориться, слишком сильны, чтобы оставить меня в покое. Неправда! Моя голова была сбита с толку, душа пуста и ослаблена... Я не имел определенного желания, и потому удовлетворять было нечего; я хотел перерождения, которое бы мне дало самые потребности... И такая, слабая, убитая Душа могла любить? - отделенная от мира - Schone Seele 3 - она создавала себе бледные образы и потом искала им подобия между людьми... Встреча, ошибки, противоречие, кризис - были необходимы. Я понял свое положение, свое прежнее ничтожество, но заменивши его ничем; я проклял эту Schonseeligkeit 4 в не сошелся с миром; от этого - сухая борьба, отнявшая у меня столько времени и сил, - и теперь еще не могу я освободиться от этого рабского сомнения, от этих мучительных мыслей, которые вяло и мучительно работают в голове..." ("Переписка...", 723). Сухость, вялость - для Станкевича это идеологические грехи и в то же время физически мучительные состояния. Через три года в письме к той же В. Дьяковой Станкевич утверждал, что она найдет в нем "гомункула, парящего между небом и землею, ощущающего свою стеклянную лачужку и не обладающего достаточною силою для того, чтобы разбить ее..." ("Переписка...", 738). Речь здесь идет о гомункулусе, выведенном в колбе искусственном человечке из второй части гётевского "Фауста". Но образ бессильного существа, "парящего между небом и землею", очень близок и к "Недоноску" Баратынского; это стихотворение в 1835 году напечатано было в "Московском наблюдателе" (позднее оно вошло в сборник "Сумерки"), и Станкевичу должно было быть известно.