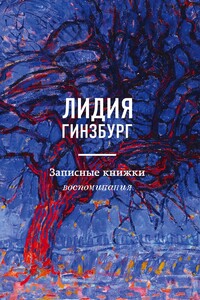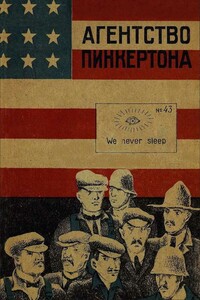О психологической прозе | страница 48
В Андрее Колосове также сосредоточен ряд опознавательных признаков Станкевича - от всеобщей любви, окружающей героя, до его веселого характера и даже смешливости в сочетании с высокой жизнью духа. Андрею Колосову свойственны "ясный, простой взгляд на жизнь" и "отсутствие всякой фразы". Это именно те основные определения, посредством которых в дружеском кругу строился образ Станкевича. Все же и Колосов, и Покорский на Станкевича не похожи. Станкевич и Белинский, скрестившиеся в одном образе, - это явления разной социальной природы, принадлежащие разным (хотя хронологически очень близким) стадиям движения русской культуры к реализму.
Белинский пошел гораздо дальше. Именно потому идеалисты 30-х годов своим учителем и образцом считали Станкевича. Станкевич для них был обещанием ясности и гармонии. Предельные решения Белинского, его страшная последовательность, все его судорожное, мучительное развитие пугало и отталкивало умы.
Станкевич судил и разоблачал себя как холодного человека. Этот мотив проходит через его письма с чрезвычайной настойчивостью. "Пустою или опустошенною - не знаю как назвать мою душу? Опустошенною? Но что же было в ней?.. Милый друг, в ней было что-то и что-то еще осталось, но оно так мало и бедно. А я надеялся на такую богатую, такую полную жизнь. В этом - моя ошибка, моя вина... Любовь - религия, единственно возможная религия, и религия должна наполнить каждый момент, каждую точку жизни, иначе любить не может человек, мало-мальски сознающий себя, но для того, чтобы быть способным к такой любви, надо быть более развитым, надо быть духом, я же был лишь душою и, притом, болел прекраснодушием" 1.
1 Переписка Н. В. Станкевича (1830-1840). М., 1914, с. 626- 627. Далее ссылки на ото издание даются в тексте.
Это письмо к Бакунину от мая 1837 года (оригинал - по-немецки) объясняет многое - не только этическую позицию самого Станкевича, но и настроенность кружка. Оно прежде всего объясняет, каким образом Станкевич, перед которым преклонялись товарищи, мог судить себя строго и притом без малейшей игры и позы. Он выдвинул недоступно высокую этическую идею - любви, наполняющей "каждую точку жизни". Нравственная практика не могла не отставать от этой задачи. Вот почему в сознании Станкевича и Белинского возникают такие оценочные категории, как апатия, вялость, холодность, безлюбовность, - понимаемые как вина, как грех против духа. Сухость, апатия враждебны требованию любви, леность - требованию напряженной жизни в духе, безволие - требованию самосовершенствования. Это уже уход от романтического конфликта, порожденного преизбыточностью духовных богатств, отделявшей героя от толпы, подготовлявшей романтическое разочарование. Сейчас источником зла, напротив того, является духовная недостаточность. В одном из писем к Грановскому Станкевич говорит, что "человеческая натура" "нуждается в потребностях. Ей надобно возвыситься до них" ("Переписка...", 449). Это значит - высшие потребности души не отпускаются ей в готовом виде.