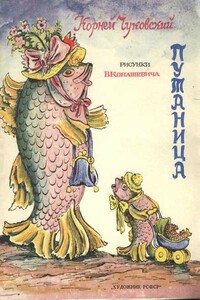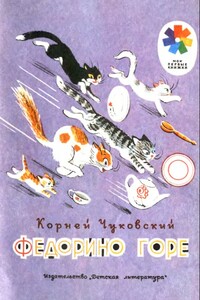Серебряный герб | страница 17
Мама не ответила, но засмеялась негромко и указала подбородком в прихожую. Я бросился туда и сейчас же увидел висящий на гвоздике кнут. Как это я прежде не заметил его! Я с восторгом схватил этот кнут (помню и сейчас чуть кривое его кнутовище, гладко отполированное ладонью владельца) и закричал вне себя:
— Дядя Фома приехал! Приехал дядя Фома!
От моих горестей почти ничего не осталось. Все вокруг меня сделалось прекрасным и сказочным. Я бегу на кухню и щелкаю, щелкаю великолепным кнутом, но дяди Фомы там нет. Я заглядываю в погреб, в сарай. Я ищу его под кроватью, за бочками, и мне кажется, что, чуть я найду его, горе мое испарится совсем. И я опять бегу к маме и спрашиваю: „Где же дядя Фома?“, но мама только смеется загадочно и говорит, что он уехал к какому-то Фурнику, ждал меня, ждал и уехал один далеко, на Пересыпь, к Фурнику, и неизвестно, вернется ли. Но я чую милый его запах: дегтя, меда, деревенского хлеба и еще чего-то уютного, поэтичного.
— Он здесь! — кричу я. — Он здесь!
И правда, он здесь, в двух шагах. Я распахиваю дверцы кладовой: вот он стоит не дыша, притаившись, чернобровый красавец в белой холщовой рубахе, и смотрит на меня без малейшей улыбки. А мама смеётся до слёз — она любит такие сюрпризы. И я тотчас начинаю кричать:
— Пуканцы! Пуканцы!
Потому что всякий раз, когда приезжает дядя Фома, он привозит с собой кукурузные зерна в мешочке из белой холстины, и не простые зерна, а диковинные. Они кажутся нам заколдованными. Помочи их в воде, брось в духовку, и они начинают стрелять (только и слышно: пых! пых!) и прыгают как живые; и, чуть они прыгнут, скорее хватай их, чтобы они не сгорели, и смотри: из жёлтых они сделались белыми и распустились, как чудесные цветы. Я готов стоять у раскаленной духовки весь день и бросать туда всё новые и новые зёрна и набивать пуканцами живот до отвала.
И мне даже самому удивительно: как это я, переживая такое тяжелое горе, могу в то же время легкомысленно радоваться каждому выстрелу кукурузного пуканца.
Впрочем, горе ушло от меня не совсем, я чувствую его даже тогда, когда выбегаю во двор в барашковой дядиной шапке и прыгаю, как дикарь, на помойке и щелкаю звонким кнутом, а мальчишки глядят на меня и завидуют.
— У меня есть ежик! — кричу я мальчишкам. — Мне привез его дядя Фома!
И те, изнывая от зависти, бегут за мною по лестнице в погреб и смотрят на ёжика с таким восхищением, будто он кенгуру или слон.
В первую минуту, едва только я стал обладателем ежика, я обрадовался ему, как родному. Я угощал его бураками, капустой и даже кусочками брынзы, которую дала мне к обеду Маруся, я хвастался им перед всеми мальчишками. Но вот мальчишки ушли, я остался один вместе с ежиком в погребе, и глаза мои набухли слезами. Если бы он знал, этот ежик, какая беда отодвинута мною на завтра и что ждет меня через несколько дней, он сразу подружился бы со мною, он прижался бы ко мне всеми своими колючками и замурлыкал бы, как ласковый кот. Но он даже не глядит на меня. Он свернулся в комок и невежливо фыркает, и я даже не могу разобрать, где у него ноги и где голова.