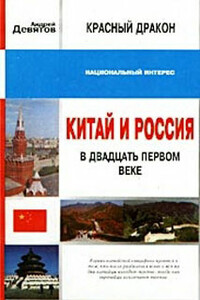Русские святыни | страница 63
За церковью всегда остается право обличения «злочестивого» царя, не сумевшего совладать с личными страстями: "таковой царь не Божий слуга, но диавол", "не царь есть, но мучитель", и ему можно "не токмо не покорится", но и оказать сопротивление. Традиция участия церкви в государственно-правовой жизни имеет в русской истории глубокие корни. В первые века после крещения Руси церковь отобрала и возвела в нормы церковного права те правовые обычаи, которые соответствовали христианским принципам и государственным задачам Руси. В ведение церкви отошли: практически вся область семейного права, некоторые уголовные дела (в частности, случаи убийства во время свадебного обряда, случаи смерти, вызванные применением "зелья и душегубства, изнасилование), часть внутриобщинного гражданского права.
Церковь сразу же получает в русском обществе функцию социальной защиты, роль заступницы за немощных и неимущих. К делам ее относятся: "нищих кормление и чад мног, странным прилежание, сиротам и убогим промышление, обидным заступление, в напастях положение, в пожаре и в потопе, в гладе прекормление"[123] и т. д.
Истории известны и случаи открытого осуждения церковными Соборами и отдельными иерархами неправедных действий власти (Собор 1503 г., осудивший Ивана Ш за попытку секуляризации монастырских вотчин, обличение опричнины и всей политики Ивана IV митрополитом Филиппом).
Таким образом, «иосифлянское» учение об отношениях светской и духовной власти в основном согласовывалось с исторической практикой сотрудничества и взаимодополнения православной церкви и русского государства. Вполне естественно, что, если государство в русском правосознании есть "часть Церкви, Церковь в направленности ее на политические задачи",[124] то прямой обязанностью его является использовать свою силу для обеспечения и защиты правды в церковной жизни. Поэтому обращение Иосифа Волоцкого к Ивану Ш за помощью в разыскании и наказании еретиков самым суровым образом, вплоть до смертной казни, не может само по себе считаться искажением православной традиции. Масса примеров подобного участия светской власти во внутрицерковной борьбе имеется в истории Византии. Думается, что само обвинение в искажении традиции, как справедливо говорит В. В. Кожинов, вытекает из особенных русских чувств и воли, почти не присущих, например, людям Запада. Так, руководствуясь теорией «учителя» католической церкви Фомы Аквинского, святая инквизиция с ХШ по XIX век отправила на костер десятки тысяч еретиков (последние инквизиторские казни состоялись в 1826 году), одна только испанская инквизиция сожгла, согласно наиболее достоверным подсчетам, 28 540 еретиков. И тем не менее святой Фома Аквинский всегда был и остается объектом всеобщего и безусловного поклонения.