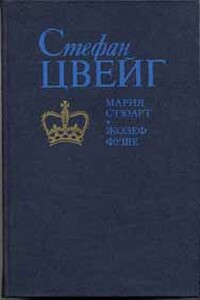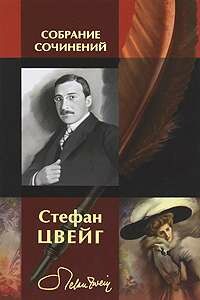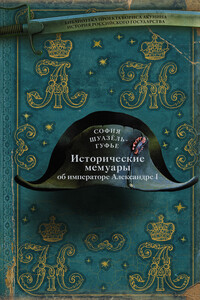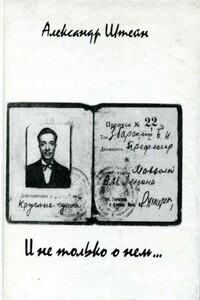Вчерашний мир | страница 11
У позднего Т. Манна, к примеру, ничего подобного не встретишь. В статье с показательным названием "Философия Ницше в свете нашего опыта" он действительно занимается философией и находит в ней точки соприкосновения с фашизмом. Но Манн делает при этом оговорки. "...Не фашизм есть создание Ницше, - пишет он, - а наоборот: Ницше есть создание фашизма..." [15] Или: "...Нелепейшим недоразумением было то, что немецкое бюргерство спутало фашизм с ницшеанскими мечтами о варварстве, призванном омолодить культуру" [16].
Насчет "нелепейшего недоразумения" - все правда. Ницше не был самым передовым мыслителем. В некотором смысле не был им и Достоевский, и его на этом основании записывали в реакционеры. К Ницше определение "реакционер", возможно, и сегодня еще как-то приложимо. Но при двух условиях: если не толковать его в качестве эмблемы абсолютного зла и если понимать, что даже заблуждавшийся мыслитель может оставаться великим, необходимым человечеству. Цвейг понял это, когда написал: "Никто не слышал так явственно, как Ницше, хруст в социальном строении Европы, никто в Европе в эпоху оптимистического самолюбования с таким отчаянием не призывал к бегству - к бегству в правдивость, в ясность, в высшую свободу интеллекта". По сути, в том же, что и Ницше, ключе рассматривается Казанова. С одной стороны, Цвейг признает, что он "попал в число творческих умов, в конце концов, так же незаслуженно, как Понтий Пилат в Евангелие", а с другой полагает, что племя "великих талантов наглости и мистического актерства", к которому принадлежал Казанова, выдвинуло "наиболее законченный тип, самого совершенного гения, поистине демонического авантюриста - Наполеона".
И все-таки пребывание Казановы в обществе Стендаля и Толстого смущает. Причем главным образом потому, что соединены они как "поэты своей жизни", то есть нацеленные по преимуществу на самовыражение. Их путь, по словам Цвейга, "ведет не в беспредельный мир, как у первых (имеются в виду Гёльдерлин, Клейст, Ницше. - Д. З.), и не в реальный, как у вторых (имеются в виду Бальзак, Диккенс, Достоевский. - Д. З.), а обратно - к собственному "я". Если относительно Стендаля тут еще можно согласиться, то Толстой менее всего согласуется с понятием "эготист".
"Мир, возможно, не знал другого художника, - писал Т. Манн, - в ком вечно-эпическое, гомеровское начало было бы так же сильно, как у Толстого. В творениях его живет стихия эпоса, ее величавое однообразие и ритм, подобный мерному дыханию моря, ее терпкая, могучая свежесть, ее обжигающая пряность, несокрушимое здоровье, несокрушимый реализм"