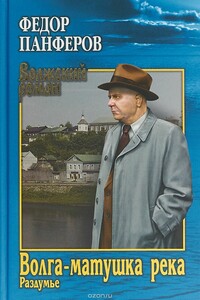Бруски. Книга III | страница 66
И Никита смертельно закручинился, когда из старой бани выгрузили зерно. Днем он скрывался под сараем и, обняв собаку Цапая, жаловался:
– Сердцем гнию, Цапаюшка! Хлебец выкачали, теперь лошадок сведут, коровушек. Кого нам с тобой тогда ласкать-миловать? Караулить кого?
А по ночам выходил за калитку, всматривался в улицу, раздувая ноздри, втягивая в себя запах масел, керосина, крутил головой и, шагая по порядку, задерживался у окон, прислушивался, и чудилось ему – мужики не спят, мужики страдают, гниют сердцем, ходят под сараями, осматривают свое хозяйство и тоскуют в одиночку, как грачи у разоренных гнезд.
«И могут, могут вспорхнуть и улететь, – пришла ему нелепая мысль, чужая, но утешительная. – Грачи по осень куда деваются? – рассуждал он. – Улетают… Вот и тут: вспорхнут – и улетят, как Маркел Быков!»
Вначале ему смешно было слушать Маркел а: тогда старая баня под обрывом была забита зерном – тысяча шестьсот пудов, а теперь баня разворочена, и на него, на Никиту, надвигается гроза. Грозу носит в себе Епишка Чанцев. Только вчера Никита бросился было в поле, хотел пожаловаться загонам, но на гуменнике перед ним неожиданно вырос из-за стога соломы Епиха.
– У-у-у! – зарычал Никита и двинулся на него. – Пригвоздить вот тебя, как таракана! – и занес увесистый кулак над головой Епихи.
А тот засмеялся, тихо проговорил:
– Убей! Тенькни вот меня по кумполу. Да не кулаком. Кол возьми… Меня с духовой трубой похоронят, а тебя, как собаку, – под овраг. Что? Ведь народ-то знает – я за тобой неотлучен…
Никита заскрипел зубами и спрятал кулак в карман, вспоминая, как хоронили Николая Пырякина.
«И это дерьмо так понести могут… честь какая!» – утешил он себя и пихнул Епиху.
– О тебя руки марать и то позор на всю Расею.
– А ты помарай! – дразнил Епиха, поджав под себя ноги, подставляя голову Никите. – Помарай, стукни…
– Ух, ты! Уйди, Епишка! Могу из сердца выйти. Я ведь… я… – И Никита закружился около Епихи, как раздразненный кот около клетки с воробьем.
«Вспорхнут и улетят», – думал он, идя на огонек к избе Филата Гусева, своего закадычного друга и кума.
Постояв у ворот, он торкнулся. Калитка на крепком запоре даже не подалась, словно была навеки заколочена. Никита обошел избу и с переулка заглянул во двор. В задней избе при свете тусклой лампешки сидел за столом Филат. Сидел он, облокотившись о стол, положив голову на ладони, сидел, не шелохнувшись, как бы замер.
«Горе мужика заело. Шутка дело – чего творится: хлеба у него выгрузили без малого тыщу пудов!» И Филат показался ему таким родным, близким, как любимый сын, – «родной сын», – хотел было сказать он, но отцовская любовь к сыну у него давно пропала: один сын умер, другой куда-то сбежал, и вот теперь Никита – расплачивайся за беглеца. «И что это, – думал он, глядя на Филата, – природа как сложена: сроду отцам-матерям страдай, а нет того, чтобы дети за отцов-матерей… И тот, Илька, омерзел он мне: через него баню раскрыли». Немного постояв, жалуясь издали Филату, он перемахнул через плетень и, Подойдя к окну, застучал.