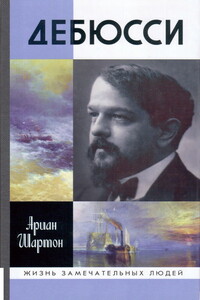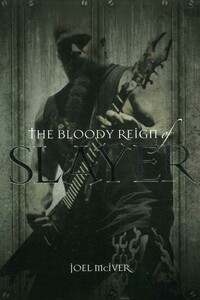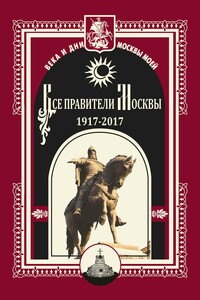Воспоминания артиста императорских театров А.А. Алексеева | страница 33
Когда подвезли Александра Евстафьевича к пароходу, он был без чувств. Его осторожно снесли в машинную отогреваться. Положили на импровизированную постель, состоявшую из одеяний кочегара, сердобольного малого, пожертвовавшего свое имущество для «отходящего», как полагали в первые минуты происшествия. Потом Мартынов отлежался, пришел в себя и со слезами на глазах благодарил всех за оказанную ему помощь и сострадание, особенно признателен он был Гореву-Тарасенкову, который отвечал ему коротко:
— Дурак ты!.. Говорили — не слушал, ну, и дурак!… Сам-то по глупости своей тони, наплевать, а за что же бы талант твой погиб?…
По приезде в Кременчуг, Мартынов прежде всего отправился в церковь и отслужил благодарственный молебен. Из актеров один я был вместе с Мартыновым в храме и видел, какие теплые молитвы он возносил Господу за свое спасение; весь молебен он простоял на коленях и рыдал навзрыд…
VIII
Отъезд Мартынова из Кременчуга. — Отношения Каратеева к актерам вообще и в частности ко мне. — Моя ссора с ним. — Последний спектакль с полицией на сцене. — Буфетчик Симка. — Как он приютил меня. — Его советы и помощь. — Антрепренер Зелинский. — Ромны. — Елизаветград. — Н.X. Рыбаков. — Как он женил меня. — Анекдоты про Рыбакова.
Сыграв с громаднейшим успехом несколько спектаклей в ярмарочном театре и получив сполна весь долг с Каратеева, Александр Евстафьевич собрался уезжать в Петербург, где ожидали его казенные спектакли.
Во все время пребывания его в нашей труппе, я чувствовал себя бесконечно счастливым и спокойным. Все свободные от театра минуты мы проводили с ним вместе, и над нашей искренно-братской дружбой легкомысленные люди пытались даже подсмеиваться. Моя привязанность к нему имела серьезные основания, благодаря тому, что он с самого первого дня своего приезда вспомнил меня, своего старого сослуживца, приласкал и пригрел. Всего этого было достаточно для того, чтобы полюбить Мартынова всем сердцем, всей душой. Все время в провинции я был окружен чужими, черствыми, закаленными людьми, которые смотрели на меня, в сущности, как на новичка, имеющего большой ход, не то чтобы очень неприязненно, но не без зависти, плохо скрываемой и обнаруживающейся при каждом удобном и неудобном случае… Много дней пришлось переживать в тяжелом раздумье и мучительном сознании, что мой уход с казенной сцены такая непростительная ошибка, что придется за нее платиться всею жизнью. К этому присоединилась тоска по Петербургу, по родным, знакомым, и тягостное ощущение бездомничества, бесприютности, скитальческого прозябания в захолустьях. Я ужасался своего положения, и вдруг является ко мне ангелом-утешителем Александр Евстафьевич, ободривший меня, отнесшийся ко мне сочувственно, братски. Я опять окреп духом. За все это как же мне было не ценить его, как же не боготворить? И на сколько правы те, которые находили в моей привязанности к Мартынову тщеславную дружбу с знаменитостью? Меня легко поймет тот, кто сам испытал хоть какое-нибудь одиночество; не говорю уже про закулисное одиночество, где под тяжестью интриг и неприятностей задыхаешься без всякой надежды на благоприятный исход, и на выручку вдруг являлся искренний, правдивый, сердечный человек…