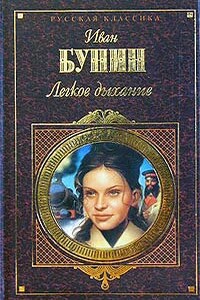Проклятый род. Часть II. Макаровичи. | страница 77
Хотелось работы. Только осенью стал писать этюды. Погасли на мраморах краски сверкающие, золотом несказанным пронизанные. В темнеющих переходах запахло сыростью склепов. И сыростью склепов сказочной неведомой страны шептали этюды Виктора. Такие уголки выискивал, что не сразу венецианец угадал бы, что то родного города лики мучительные.
Зима подошла.
Не уезжал долго Степа Герасимов. Давно пора к мастеру, в Рим. Не уезжал, лениво писал этюды, летнею памятью мучительно воссоздавая отошедшего золотого бога на непослушных холстах. Не уезжал, будто поджидал кого-то. Из России получал через большие сроки открытки от Юлии. Неопределенно глухо писала иногда про Дивный город на водах.
Показывал иногда Степа Виктору полученную открытку. Но всегда не в день получения. Много позже.
Степа с Виктором по неделям слова не говорили. А дня по два, по три вместе. По кабачкам тогда ходили, кьянти пили, по мертвым каналам думами разноликими черную птицу-змею гнали вперед, все вперед.
Редкие письма Zanetti из Петербурга обоих смешили.
- Пусть его преуспевает.
Каждый день новый опустошал Венецию. Тоска мглистая, трупная гнала запоздавших людей. На вокзал спешили, не оглядываясь и молча, как из зачумленного города, туда, где жизнь понятная и нужная, где звонки трамваев, где хлопанье бичей, где нет домов с заколоченными окнами, где тени отжившего не встают от затхлых вод немых, отравных.
Подошло письмо из Неаполя, от старого богача, купившего «Amor». Спрашивал, написана ли следующая картина «молодого maestro». Где будет выставлена? Когда? Просил прислать, если возможно, снимок. Пространно сообщал отзывы об «Amor» многочисленных своих «друзей, любителей прекрасного».
Улыбнулся в мансарде своей Виктор, на кровати лежа, по-русски пачкая башмаками одеяло. Приподнялся лениво. Стулом близ стоящим в пол постучал. Ожидал недолго. Вошел Степа. Бледный, скукой мертвою томящийся. Без пиджака, в перепачканной красками жилетке своей полосатой.
- Что тебе?
- Ессо![13] Читай!
У окна, утратившего радость недавнюю, читал письмо.
- Поздравляю.
- С чем?
- А вот. За этим ведь звал. А что картины у тебя нет, это твое дело. Да это ничего. Старики и по двадцать лет картину писали.
- Ну, не часто! Если бы так, Рубенсу пришлось бы тысячи три лет прожить.
- А Иванов?
- Брось. Не в том совсем дело, Степа Григорьич. Мне вот тоже картину писать хочется.
- Садись и пиши.
- Ну, я стоя. Сидя и тебе не советую.
Замолчал Степа. В окно смотрит глазами, потерявшими правду свою. Туда, Где сияла недавно сказка. И слышит голос каменный. И кажется ему, что нарочно, чтоб злить его, Степу, уничтожить, слова те каменные падают.