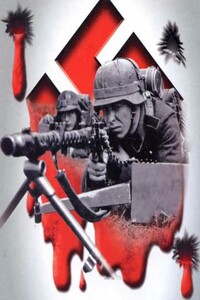Фронтовой дневник эсэсовца. «Мертвая голова» в бою | страница 10
Мы снова чувствовали себя прекрасно, задорно плескаясь и плавая в светло-коричневых водах Хафеля и лежа на желтом горячем песке Бранденбурга.
Только теперь мы заметили, что здесь собралось несколько симпатичных девушек. Наши тирольцы, прошедшие только что «интернациональное воспитание», сразу же направились к ним, чтобы установить первые связи с коренным населением земли, где мы гостили. При этом они разговаривали на своем убойном тирольском диалекте, что в глазах красавиц, по-видимому, придавало им немного экзотики, что-то вроде «отвесных скал и охотничьей крови». Шансы сынов высокогорья были велики! С моими 800 метрами Вандхофенского Шнабельберга я тягаться с ними не мог, не говоря уже о недокормленных пятнадцати годах от роду.
О конфликте с «пруссаками» мы уже забыли: «Да, впрочем, не такой уж он и плохой, этот простофиля!» На самом деле это было началом примирения. В конце его последовало приглашение штирийца в дом своих родителей (и сестры!) в Берлин. Он был острым на язык, и реакция в разговорах была молниеносной. «Бог за того, у кого нет шансов!» — было общим мнением. Унтерштурмфюрер Градль с удовольствием наблюдал за происходящим. Он действительно добился того, чего хотел.
Прошло несколько недель. С утра до вечера мы стояли под парами. Наш шарфюрер Фетт стремился с отчаянной ожесточенностью сделать из нашей маленькой компании дисциплинированную группу. Честно говоря, если бы я оказался перед фронтом, то и меня при виде наших неуклюжих фигур покинул бы всякий боевой дух. Хотя наше обмундирование до некоторой степени было подогнано, оставалось изменить еще кое-что. Для нас было непостижимо, почему современная армия, которой должна стать немецкая, прочно держится за непрактичные традиционные вещи, такие, как галстук и огромные сапоги, прозванные «болотоходами». Зачем сохранять их для будущих поколений? Галстук — это предмет одежды? Нет. Украшение? Нет! Это что-то лишнее, предназначенное для того, чтобы семь раз в неделю его начищать. Это мучение, которое солдат вешает себе на шею и цепляет за подтяжки, если они у него есть. А если их у него нет, то эта серо-зеленая полоска ткани висит крохотным лоскутом перед шеей, незакрепленная, выше или ниже адамова яблока, «в честь народа, для обороны от врага». Если она все же закреплена как полагается, то она маскирует наличие серо-полевой рубахи вместо неприглядной безворотничковой белой рубашки. При строевых упражнениях эта шейная повязка еще держится, но при боевой службе она становится вскоре самостоятельной. Тогда она может перекочевать на спину или куда-нибудь еще, и в полном смысле слова висит на шее. «Болотоходы» врезаются краями голенищ в подколенные впадины, перекрывают кровообращение в ногах, висят на ногах, словно свинцовые, и защищают от затекания грязи — в глубоком песке, который при наших перебежках и переползаниях засыпается нам в голенища.