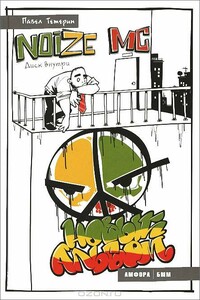В безбожных переулках | страница 35
Мама, наверное, не хотела обязываться у знакомых ей мужчин. Наладить быт взялась сестра. Она и командовала в квартире.
Свою взрослую сестру я никогда не воспринимал как старшую, она и существовала всегда для меня как-то отдельно. Я знал, что она учится в какой-то "французской" школе и что ее любит Мешков, который тоже в этой школе учится. Мешков любил сестру много лет - чудилось, столько же, сколько и училась она во французской школе. Жил он тоже на проспекте Мира, но в другом доме. Все годы он казался мне одним и тем же человеком - низкорослый (сестра всегда была выше его на голову), стройный, блондинистый, бледный, с нервным румянцем, - хотя из мальчика превращался в подростка, а из подростка превратился в мужчину, но все равно походил на мальчишку, хоть пыжился и даже отпустил бакенбарды с усиками: в тот год он поступил в педагогический институт.
Это и было всем, что я знал о жизни сестры. У меня много было в доме своего, хоть бы игрушек. А у нее ничего своего, казалось, не было, как у бедной; только чемоданчик-проигрыватель и с десяток пластинок она до слез отстаивала как свое, возмущенная, бывало, тем, что я замалевал обложку пластинки или вообще притронулся к этим вещам. Свой стол, у окна, она уже не защищала от меня - все, что хранилось в нем, делалось моей добычей. Она хотела, чтобы мама наказывала меня за то, что я делал с ее добришком, но выходила уже сама в ее глазах виноватой и будто бы наказанной, то есть "жестокой" или "жадной". Тронуть меня сестра не смела, ей было запрещено это матерью - могла лишь терпеть до слез свою обиду и это унижение. Мне могло быть одиноко и тоскливо без нее, но не бывало ее жалко. Если я вредил ей, то потому, что не выучился с ней что-то делить. Но проигрыватель, маленький голубой чемодан с блестящими замочками, осознавал вещью сестры, если и не частью какой-то ее самой. И я не мог, действительно, к нему притронуться, боясь сломать, как никогда не притрагивался к одной большой пластинке, оскверняя без раздумья любую другую, только попавшую под руку. Это случалось всегда одинаково... На столе у окна горела лампа, тускло освещая и комнату. Ее учебники, тетради, как одежки, раскинулись в беспорядке у чемодана, установленного здесь же, прямо на столе, и казалось, что сестра от нас уезжает. Печальный голос и мелодия витали в комнате сами по себе, но чем ближе к распахнутому чемоданчику, тем явственней. А в нем кружилась большая черная пластинка, занимая все место и так ярко отражая свет лампы, что слепило глаза. И кружение ее было поэтому мало заметно. Оно тоже скорее слышалось. Как шорох. Я искал глазами сестру, понимая, что она должна быть где-то рядом. Прислушивался, пропуская отрешенно сквозь себя и этот шорох, и печальное нытье большой черной пластинки. И за колыханием занавески улавливал удушливые всхлипы - она пряталась ото всех там, на подоконнике, сжавшись в судорожный комок, удивительно маленькая. Заплаканное ее лицо глядело на проспект, где все казалось бездонным. Сестра слушала незряче голоса с пластинки, а я не понимал этих слов. Не понимая, бывало, помыкивал мелодию, будто она могла что-то объяснить. Но это ничего не объясняло, и тоже хотелось плакать. Стоило же заглянуть к ней, как сестра со злостью задергивала занавеску. Обложку этой пластинки, что хранилась у нее на столе, я воспринимал как фотографию. И мне думалось, что сестра разлюбила Мешкова и любит того, чье изображение я вижу. Мама входила в комнату и тоже заглядывала к ней, ласковая. И она же, рассерженная, захлопывала властно чемодан. Воцарялась гнетущая тишина. Я слышал, как хлопает дверь, - это убегала сестра. И я взбирался на брошенное ее место, вжимаясь лбом в холоднющее стекло окна, глядя и глядя, порой до самого ее возвращения домой, на бездомный, cлезящийся огоньками проспект, я ждал, что увижу там сестру.