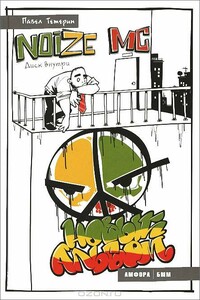В безбожных переулках | страница 34
Дом наш новый походил на парафиновую свечку, закопченный да оплывший так, будто свечку уже порядком пожгли. Двором была открытая асфальтовая площадка перед единственным подъездом с густо окрашенной масляной коричневой краской дверью. Двор окружали кусты. В глубине, за кустами, куда уводила проломанная через них тропинка, виднелись дощатый стол и две скамьи, где пили портвейн и резались в карты человек десять -- двенадцать мужиков, оглашая двор то радостным смехом, то гвалтом матерщины. На них, утихомиривая, порой кричали еще похлеще бабки, что чинно, рядком сидели на скамейках перед подъездом почти в том же количестве, под дюжину, что и мужики. Может, это и не бабки были, а такие старые их жены, но показались они мне старухами, и не было видно близко с ними детей. Двое грузчиков, что вылезли из кабины, взялись выгружать нашу мебель; один потащил на спине наш новый шкаф, а другой утащил холодильник. Картежники умолки и выглядывали поверх кустов. А бабки оглядывали с ревностью маму и сестру, одетых не как они, будто непрошеных гостей. Одна нарочно громко гаркнула: "Глянь, приехала! Теперь мужика-то по-новой надо искать!" Народец засмеялся, довольный; бабки на скамейках и отдельные от них мужики были все по-своему польщены. После с любопытством пялились на мебелишку и вещички, что, будто голое, оказывалось у них на глазах. Обсуждали креслица, гарнитур. Были довольны - что все худое, опять смеялись. Люди эти отчего-то безошибочно чуяли, что в ответ лишь смолчат.
Наша новая квартира - на первом этаже; узкий, как приступок, коридор; кухня - голые стены и кафель делали ее похожей на что-то больничное; две смежные комнаты, меньшая из которых могла б вместить в себя только диван и шкаф, как и вышло потом, и ее заняла сестра; а вид из окон - кусты да деревья, растущие так близко к окнам, что до них легко было дотянуться рукой. И мама будто бы очень радовалась: она сказала, что всегда хотела пожить в тиши и чтобы весной и летом окна утопали в зелени. В квартирке было сыро, темно; чудилось, въехали во все чужое да поношенное, от совместного санузла до обоев. Остро я почувствовал в ней неожиданно даже не свое одиночество, а мамино и ее бессилие, которое она старалась скрыть: в ее жизни стало еще больше того, чего она не могла, не умела одолеть - перед чем была бессильна.
Наш с ней диван от переезда разрушился, равно как и у половины мебели что-то ломалось и отваливалось, стоило ее тронуть - у дивана оторвались с креплений боковушки, так что пришлось опустить его на пол и, даже раскладывая, спать будто на полу. Жили без штор, так как их было не на что навесить, - прежние хозяева увезли свои карнизы. Комнаты первого этажа казались будто настежь распахнутые, и мы, когда темнело, не включали поэтому свет, ходили в темноте. Заглядывали в окна какие-то рожи, пугая до визга сестру, так что переодеваться стало не по себе даже в темноте, и она пряталась для этого в туалете. Я почувствовал, что должен защищать маму с сестрицей; c кухонным ножом в руках караулил окна, ходил из стороны в сторону, наверное, воображая себя солдатом, чем очень их смешил. Из-за своего старания помочь только сильнее портил мебель. Когда мама купила молоток и гвозди, то первое, что сделал, - приколотил дверку в трюмо. Наверное, это выглядело зверством, что я сделал с полированной дверкой, вколотив в нее гвозди. Она же стала кое-как висеть, и я был горд. В школу еще не водили, поэтому оставался дома до вечера один, когда сестра с мамой уезжали. Вечером, когда они возвращались, мы сидели допоздна на кухне и разговаривали обо всем. Пили чай, играли в карты. Моим домом стала просто моя семья, а семьей этой были две женщины. Еще от развода осталось в моей памяти слово "разнополые"; так как мы были "разнополые", нам и досталась квартира с двумя смежными комнатами, а где жил теперь отец, я не знал.