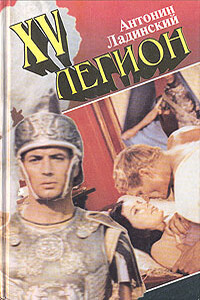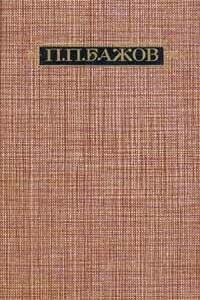Повесть о лесах | страница 40
"Черт возьми! - подумал Леонтьев. - Как бы это все же собрать воедино свои мысли и привести их в полную ясность?!"
Единственное, что он сейчас ощущал, - это волнение, вызванное быстро меняющимися мыслями. Но в этих мыслях было что-то одно, главное, чего он еще не мог уловить, выразить словами.
Он знал, что в ту минуту, когда весь этот хаос как будто мимолетных мыслей и впечатлений станет совершенно отчетливым, наступит время писать. Наступит та жажда писать, когда каждая потерянная минута кажется катастрофой. Тогда весь этот поток разрозненных мыслей войдет в гранитные, строгие берега повествования.
Удивительнее всего, что окружающее было под стать этой ночи с ее сумрачным блеском: и тусклый отсвет адмиралтейской иглы, и слабый огонь зари в окнах, и приглушенные голоса, и даже внешность людей.
Вот прошел старик без шляпы, с заложенными за спину руками известный ученый; остановился на берегу и долго смотрел на черные грузные баржи, стоявшие на якоре на Большой Невке. Он, должно быть, удивлялся тому, что баржи эти, сделанные из тяжелого темного дерева, казались сейчас, в свете ночи, совершенно невесомыми. Или вот девушка в темном скромном платье. Она сидит на каменном спуске к воде и, низко нагнувшись, читает при последнем, иссякающем свете какую-то книгу.
"Что она читает?" - подумал Леонтьев, остановился, хотел спросить об этом девушку, но та обернулась, посмотрела на Леонтьева раздосадованными глазами - такими большими, что вокруг блестящего зрачка был виден нежный белок, - и захлопнула книгу. Спрашивать не пришлось - на обложке Леонтьев прочел: "Алексей Толстой. Хождение по мукам". Девушка поднялась, пошла по набережной, и Леонтьев, глядя ей вслед, увидел, что это совсем еще юное существо - тоненькое, со слабыми плечиками и детскими косами.
Всю ночь Леонтьев бродил по островам, долго сидел на бонах лодочной станции. Быстрое течение на Невке перебирало и расчесывало зеленые нити водорослей. Стало холодно. Туман серыми струйками начал осторожно выползать из садов и стлаться по воде. Никого вокруг не было.
И тут наконец Леонтьев понял, что все эти его такие разрозненные мысли, по существу, являются мыслями о родине и о нем самом как частице многомиллионного народа, частице своей страны. Ленинград был одним из лучших ее выражений, и все в нем, до последней мелочи, говорило о прошлом, о настоящем и будущем России.
Теперь Леонтьеву стало ясным, о чем он будет писать: о России. Она сейчас представлялась ему обширным миром поэзии, далеко еще не до конца исчерпанным поэтами, писателями и художниками. Да, полно, можно ли эту поэзию исчерпать до дна? Конечно, нет. Но он все-таки должен добавить ко всему, что писалось о России, свой вклад, свою любовь к ней, свое ощущение эпохи - небывалой и удивительной.