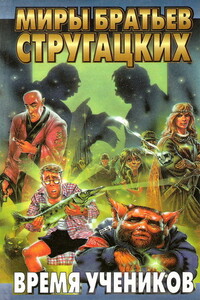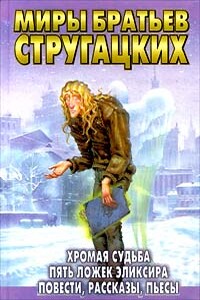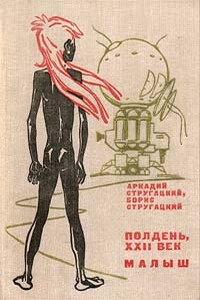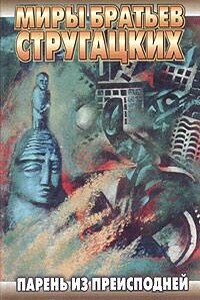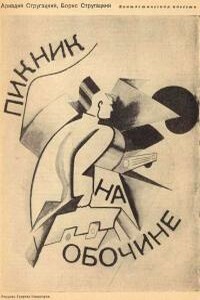Неизвестные Стругацкие: Письма. Рабочие дневники, 1963-1966 г.г. | страница 94
Р. Т.[83] Ленке привет. Слушай, может быть, она сердится, что я ей приветов не передаю. Я, кажется, действительно, в этом отношении хамоват. Так я буду! Ей-богу! Поцелуй ее в щечку, пусть не сердится.
АН продолжает рецензировать приходящие рукописи. Вот для примера несколько его рецензий на рассказы из «самотека».
Изложение содержания опускаю.
МИРОНОВ «ВЕЧЕР В ГОСТИНИЦЕ»
Рассказ представляется неудачным, и вот почему. Всё происходящее дается через восприятие Катумина, усталого опытного человека, считающего, что ему пора на покой. Он любит свое дело, но оно так надоело ему, что одной глупой фразы («Боже, какая волнующая экзотика!») достаточно, чтобы отвратить его от новой работы. Эпизод с демонстрацией аппарата для записи памяти и реабилитацией фокусника призван, по мысли автора, вернуть Катумина к работе. Получаются, по крайней мере, две вопиющих неувязки. Во-первых, неувязка психологическая. Весьма вероятно, что такой человек, как Катумин, вернулся бы к работе, узнав, что боец сопротивления, незаконно осужденный в период культа личности, строил этот самый город, в котором Катумину предлагают работать. Но фантастическая обстановка реабилитации настолько резко бьет читателя по глазам, что все Катуминские сомнения отступают далеко на задний план, и литературно никому уже нет дела до колебаний героя, на которые автор затратил первую половину рассказа. Во-вторых, неувязка сюжетная. Запись памяти врезана в сюжет грубо, бесцеремонно и наивно, она ничего общего не имеет с замыслом повествования, каким он представляется читателю. Выбор записи памяти как средства реабилитации фокусника и, далее, фактора, влияющего на настроения Катумина, абсолютно произволен. А при фантастичности этого средства — просто притянут за волосы.
МИРОНОВ «ДОРОГИ НАВСТРЕЧУ»
Этот рассказ значительно лучше, хотя бы по замыслу. Вообще чувствуется у Миронова «детская болезнь» фантаста — схватиться за могучую идею, а сюжет к ней приляпать как-нибудь, лишь бы читалось. На этот раз, однако, сюжет не страдает полной непричастностью к научной идее, как это чувствуется в предыдущем рассказе. Правда, и здесь инфраглобатор можно было бы заменить любым другим изобретением, но ведь даже в «Иду на грозу» Гранина выбор темы работы ученых достаточно произволен. Идея сходимости теоретических и экспериментальных путей в современной науке заслуживает внимания, и разработка ее представляет большой интерес для читателя. Но все же рассказ этот тоже нельзя признать удачным. В нем есть интересные сцены, любопытные мысли, однако в целом он производит впечатление весьма непродуманного и недоработанного. Скорее всего, это идет за счет очень банального конфликта и за счет недоверия, которое всегда испытываешь, когда читаешь про ученых-одиночек в наше время. Разумеется, за спиной Лидского и Андрея институт, лаборатория и всё прочее, но в рассказе этого нет, не ощущается. Трудно поверить и в кустарность опытов с неизвестным аппаратом.