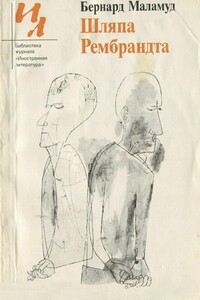Жильцы | страница 50
— Иди ко мне, малыш, расстегни мне штаны.
Я сказал, не хочу.
— Я дам тебе десятицентовик.
Я не двинулся с места.
— И еще четвертак. Ну, расстегни мне штаны, и деньги твои. Десятицентовик и четвертак.
— Не доставайте, пожалуйста, — попросил я его.
— Не буду, если ты сможешь широко раскрыть рот и прикрыть зубы губами вот так.
Он показал мне, как надо прикрыть зубы.
— Смогу, а вы перестаньте говорить, как негр.
Он сказал, перестану, милый, и что я умный мальчик и он очень любит меня.
Он снова заговорил, как белый.
Лессер сказал, что глава вышла сильная, и похвалил манеру письма.
— А как насчет формы?
— Глава хороша по форме, она хорошо написана. — Больше он ничего не сказал, как они и уговорились.
— Чертовски верно, приятель. Это сильная негритянская литература.
— Это хорошо написано и хватает за сердце. Вот пока все, что я могу сказать.
Билл сказал, что в следующей главе он намерен глубже проникнуть в негритянское сознание мальчика, который уже сейчас — огонь желания и разрушения.
Тот день он прожил в торжествующем опьянении, вызванном отнюдь не марихуаной.
А вечером оба писателя, прихлебывая из стаканов красное вино, разговаривали о том, что значит быть писателем, какая это хорошая и славная штука.
Лессер прочел вслух запись из своей записной книжки: «День за днем я все более и более убеждаюсь, что великолепное слово уступает лишь великолепному деянию в этом мире».
— Кто это сказал?
— Джон Китс, поэт.
— Правильный малый.
— А вот кое-что из Колриджа. «Истинное наслаждение доставляет только то, что не может быть выражено иначе».
— Перепиши это для меня, приятель.
*
Одним бесплодным утром, подавленный, лишившийся уверенности в себе как в писателе, что с ним изредка бывало, Лессер около полудня стоял в Музее современного искусства перед портретом женщины, написанным его знакомым, безвременно скончавшимся художником.
Хотя Лессер просидел за столом несколько часов, в тот день он впервые за год с лишним не мог написать ни фразы. Казалось, будто книга, над которой он работал, просит его сказать больше, чем он знает; он не мог удовлетворить ее безжалостные требования. Слова были тяжелы, словно камни. Если пишешь книгу на протяжении десяти лет, слова со временем стареют; они становятся тяжелыми, словно камни, — это тяжесть ожидания конца, становления книги. Хотя он рвался вперед, любая мысль, любое решение казались ему неприемлемыми. Лессер физически ощущал депрессию, словно больная ворона уселась ему на голову. Когда он не мог писать, он разуверялся в себе; он начинал сомневаться в своем таланте: действительно ли это талант, а не греза, которую он нагрезил сам себе, чтобы заставлять себя писать? И когда он разуверялся в себе, он не мог писать. Сидя за столом в ярком утреннем свете, пробегая глазами вчерашние страницы, он испытывал желание все бросить — до того ему не нравились язык, сюжет, план книги, ее замысел. Ему до смерти надоела эта бесконечная, незавершенная, противная книга, дисциплина труда, сама ограниченная жизнь писателя, всецело посвященная творчеству. Она вовсе не обязательно должна быть такой, но такой она была для Лессера. Что я с собой сделал? Я потерял способность чувствовать что-либо, кроме языка, у меня отняли жизнь. Он вынудил себя вычеркнуть это утро из работы и пошел прогуляться по февральскому солнцу. Гуляя, он старался выкинуть из головы назойливые мысли. Он назвал свое недомогание «депрессией» и на том успокоился; и хотя в последнее время он избегал думать о чем-либо, связанном с писательством, он не мог забыть, что больше всего на свете хочет написать превосходную книгу.