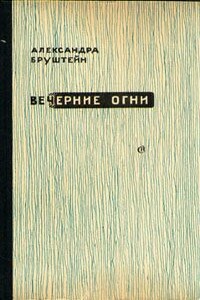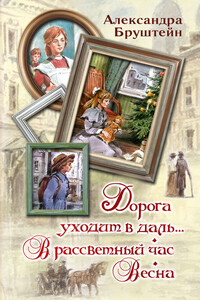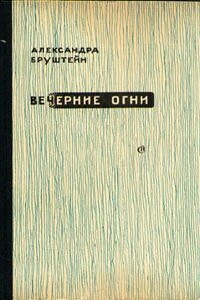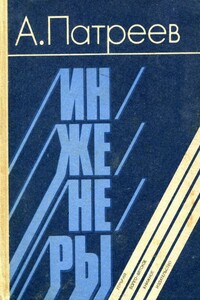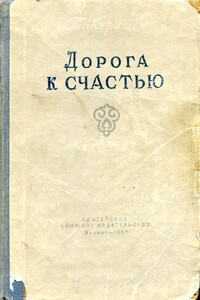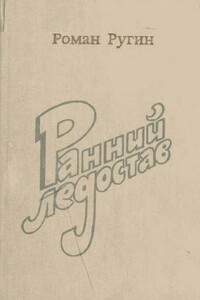Цветы Шлиссельбурга | страница 28
Шеф жандармов Оржевский лицемерно объяснял большую заболеваемость и смертность среди заключенных осознанием ими своей вины и пробуждением в них раскаяния! О том, что это была ложь, красноречиво говорит одно незначительное, но коварное обстоятельство: в установленной форме отчетов администрации о 117 заключенных имелась поначалу графа «Степень проявленного раскаяния», но ее пришлось выбросить. Очевидно, раскаяние существовало лишь в мечтах тюремщиков.
Был огромный, просто чудовищный разрыв между числом заключенных и количеством тюремщиков. Горсточку узников — в среднем человек в тридцать — обслуживали… нет, не то слово! — караулили, мучили, разъединяли, мешали их общению между собой 143 тюремщика (45 — по управлению и 98 — по «пешей команде»). На содержание Шлиссельбургской тюрьмы отпускалось в год 85 тысяч рублей. Расход на каждого из заключенных составлял 11 копеек в день; иначе говоря, на всех арестантов тратилось, вместе с кое-какими другими статьями расхода, около 2 тысяч рублей в год. Остальные 83 тысячи рублей в год (из 85 тысяч) получали тюремщики. К этой сумме прибавлялись некоторые награждения из «экономических сумм». (Об этих «экономических суммах» я расскажу дальше.)
В общем, житьецо у тюремщиков «старого Шлиссельбурга» было вполне благополучное.
Как ни странно покажется на первый взгляд, но именно это обстоятельство вызвало кое-какое улучшение в невыносимой жизни заключенных! Страшная борьба самих заключенных за такое улучшение не приносила почти никаких изменений в их жизни и быте. Но усилившаяся среди них заболеваемость и участившаяся смертность заставили тюремщиков задуматься: а не потеряют ли они всех заключенных и не уплывет ли с ними вместе из-под ног тепленькое местечко? Из этого, надо признать, логически обоснованного, законного опасения выросли не то чтобы радикальные изменения, — нет, до этого дело, конечно, не дошло, — но некоторые послабления, облегчения тюремного режима. Заключенным стали давать кое-какие книги, кроме евангелия. Разрешили пользоваться письменными принадлежностями. Разрешены были также прогулки вдвоем, работы на единоличных огородных клочках земли и пр.
В своих воспоминаниях «Шлиссельбургские узники» (издательство «Задруга», 1920) Вера Николаевна Фигнер, рассказывая о жизни шлиссельбургских заключенных, вспоминала картину В.В. Верещагина:
«На вершине утесов Шипки в снеговую бурю стоит неподвижно солдат на карауле, забытый своим отрядом. Он сторожит покинутую позицию и ждет прихода смены. Но смена медлит, смена не приходит и не придет никогда. А снежный буран крутится, вьется и понемногу засыпает забытого… по колено… по грудь… и с головой. И только штык виднеется из-под сугроба, свидетельствуя, что долг исполнен до конца.