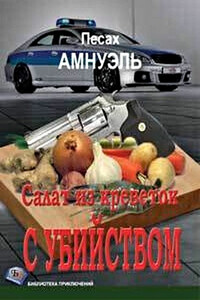Дурная Слава | страница 138
Детскую улыбку сменил испуг оттого, что его поругал взрослый. Бену сделалось стыдно. Мальчик выглядел наивно и незащищено.
— Что прикалываем? Я не понимаю, — спросил он.
— Вот это действительно смешно. Что вы и «чуваки» не говорите? Как же вы парня называете в таком случае?
— Хмырь, — пожал мальчик плечами. — Только я так не говорю. Папа ругает меня.
Говорит, что это некрасиво. Все говорят, а я нет. Надо мной все смеются. Разве это правильно?
— Ну ладно, как говорится, каждому свои приколы. До Алги отсюда далеко?
— Не слышал про такой город. Это что заграница?
— Ты меня убиваешь, как это, хмырь. Какой здесь ближайший населенный пункт?
— Камышин в часе езды.
— Камышин давно в Сабару переименовали.
Бен осекся, когда увидел, какая из ранца у пацана торчит игрушка. Этакий грузовичок, весь из сплошного металла, с лепешками колес, такой старый, такие выпускались только в 60-тых годах 20 века. И такой новый. Сверкающий лаком на немятых боках, с идеально чистыми негнутыми колесами, только что из магазина.
Сразу бросилось в глаза то, на что он должен был обратить внимание с начала. На мальчике был пионерский галстук, а на ногах кеды, повсеместно замененные давным-давно на кроссовки, и чей внешний вид которых он успел позабыть, потому что не видел таких со своего детства, когда таскал такие же — на толстой рыхлой резине. И воздух здесь был другой. Все было другое. Он попал в другую жизнь. Внезапная догадка пригвоздила его к месту. Раритетная монетка, автомат, теперь школа раритетная. А может все наоборот. Может это он раритет.
— Это какой…? — он хотел спросить «год», но со страхом понял, что с ним что-то не то, он бьется как эпилептик, но не может выдавить из себя одно единственное слово.
Это была даже не заикание, а нечто гораздо более худшее, словно кто-то взял его железной рукой за язык и не давал говорить вовсе. Он попробовал говорить другие слова, и это ему удалось, правда, до определенных пределов.
— Это что же я попал в…? — он хотел сказать «прошлое» и снова забился в падучей, хрипел, надувал щеки, было смешно и страшно, как в детстве, когда наступает такой момент, и от переполнявших чувств начинаешь писаться в штаны.
Похоже, перелет не прошел даром и он заболел. Ему сделалось плохо. Закружилась голова, затошнило. И его позвали. Голос тонкий, далекий, но отозвался прямо в сердце и в черепе одновременно. Он нутром понял, пора.
— "Кончитта", — прошептал он, вытирая выступившую испарину.