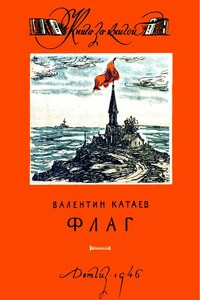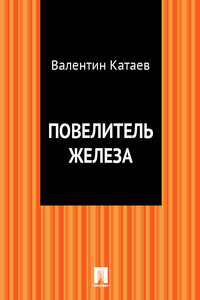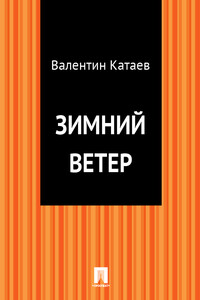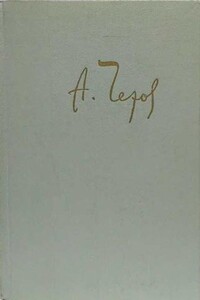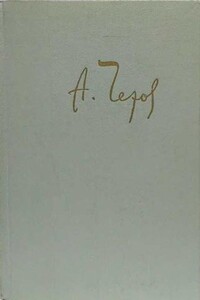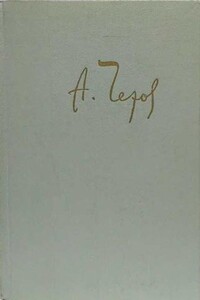Собрание сочинений в девяти томах. Том 1. Рассказы и сказки. | страница 34
Совсем иные чувства испытывает лирический герой в заокеанской стране. Американский континент предстает как мир, где люди душевно разобщены. Об этом говорит герою и встреча со своей юностью, с женщиной, которую он некогда любил. "И вот мы опять, как тогда, стояли друг против друга - вот я и вот она, - одни-единственные и неповторимые во всем мире, посреди традиционного американского полуосвещенного холла, где в пустом кирпичном камине бушевало, каждый миг распадаясь на куски и вновь сливаясь, газовое пламя - искусственное и неживое, слишком белое..." Подобна этому искусственному пламени и судьба героини, которая, покинув революционную Россию, бежала на чужбину. Страшное одиночество души, разобщенность с окружающим миром - таков удел этой женщины, неспособной вслушаться в тревоги ни старой, ни новой родины: ведь глуха она к подземным взрывам в атомных ущельях Невады, столь явственно слышным герою.
И, оглядываясь назад на собственную долгую жизнь, герой понимает - было в ней главное: общая судьба со своим народом, с родной землей, с "единственной в мире, неповторимой, трижды благословенной страной моей души".
Сложность формы повести "Святой колодец" определяется большой философской и социальной емкостью ее образов. Частные судьбы отдельных людей, как бы случайно выхваченных из толпы, вырастают под пером художника до высоких обобщений. Рассказ об отдельных людях становится повествованием о судьбах мира; вглубь и вширь раздвигаются рамки маленькой лирической повести, она постепенно обретает эпический характер. "Возвращение" героя означает и победу жизни, и внутреннюю, духовную победу над угрозой атомной войны, над силами реакции. Нет, ничто не может сломить душу человека, которая стала частицей души народа, - говорит своей лирико-философской повестью советский художник.
Третья из лирико-документальных повестей Валентина Катаева - "Трава забвения" - обращается к разработке острейшей проблемы современного искусства, к проблеме - Художник и Революция. Две реальные исторические фигуры поставлены в центре повествования: Иван Бунин - художник, чья трагедия была в том, что он не понял и не принял Октябрьской революции, и Владимир Маяковский - ее трибун, глашатай, поэт, чье творчество принадлежит к искусству бунтарскому, новаторскому, "разносящему Октябрьский гул".
История внутреннего творческого становления лирического героя повести неразрывно связана с этими двумя столь антагонистическими образами людей нашей эпохи: "У них у обоих учился я видеть мир - у Бунина и у Маяковского... Но мир-то был разный".