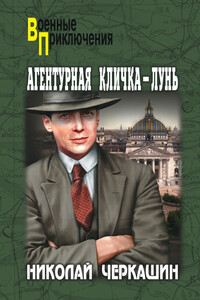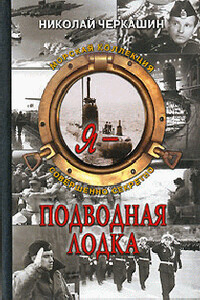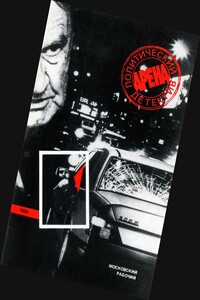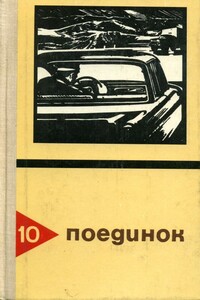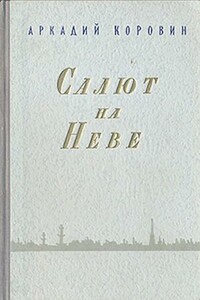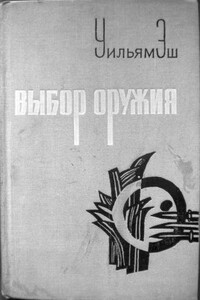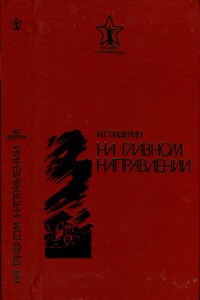Пламя в отсеках | страница 69
Тысячу раз прав командир подводного ракетоносца Е. Селиванов, умудренный горьким опытом объемного пожара: «Надо еще на уровне проекта, на стадии постройки корабля исключить саму возможность возникновения пожара. Должна быть найдена система предупредительных мер…»
— Эх, если бы нас, командиров, — вторит ему его коллега капитан 1 ранга Э. Рыбаков, — привлекали, не говорю уж к проектированию, хотя бы к составлению проектного задания. Уж, наверное, мы могли бы что-то подсказать. Но сверхзасекречено все…
Наверное, не зря старый моряцкий тост звучит сегодня так: «За наших в море на таких кораблях!»
И уж если говорить о первопричине трагедии К-278, то она в причине взрывообразного пожара, вспыхнувшего вдруг в злополучном седьмом отсеке. Вся остальная цепь событий — лишь производное от него. В конце концов, подводники уходят в океан не для того, чтобы тушить пожары. У них свои еще более сложные тактические, боевые задачи. Высшее мерило их обученности, их мастерства — пораженная из-под воды цель. И если я приобретаю цветной телевизор, а потом меня обвиняют — я-де погубил аппарат тем, что тушил его, внезапно вспыхнувший, не по инструкции, то, согласитесь, это странная постановка вопроса. Жаль, что народный депутат А. Емельяненков игнорирует эту странность, определяя первопричину трагедии в неумении второго экипажа вести борьбу за живучесть.
Кстати говоря, и старший матрос Бухникашвили, и мичман Колотилин, на чью смертную долю выпали начальные минуты аварии, «родом» из первого экипажа. Спору нет — первый экипаж был более опытным, чем второй. Это и понятно: люди Зеленского знали корабль со стапеля, испытывали его, чаще ходили в моря. Но из этого вовсе не следует, что ванинцы были недообучены, что они не умели бороться с огнем, что у них «подкорка не сработала тогда, когда поджилки трясутся и мозг не включается…» Аргументы?
Оба экипажа обучались на одних и тех же тренажерах, по одной и той же программе. Разумеется, в Учебном центре были далеко не все макеты систем уникального корабля, и тогда второй экипаж отправлялся изучать их в те институты и на те заводы, где они создавались.
Мало кто знает, что почти все среднее звено комсостава ванинского экипажа, а также старпом и помощник — выходцы из первого экипажа. Подавляющая часть «дублеров» обладала опытом дальних подводных плаваний.
Теперь, просчитав в кабинетах, задымленных разве что дымом сигарет, все варианты тушения пожара, призвав на помощь опыт свой и зарубежный, критики второго экипажа легко бросают камни в спину Ванина. «То-то сделал не так, того-то не приказал, а можно было поступить так-то и тогда бы…» Но последнее слово всегда остается за погибшим командиром. Мы не знаем и никогда не узнаем того, что знал он, принимая свои решения. Нельзя судить неуслышанного.