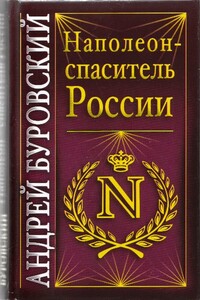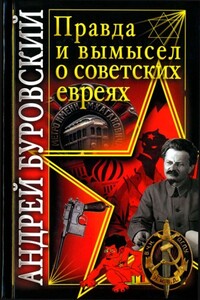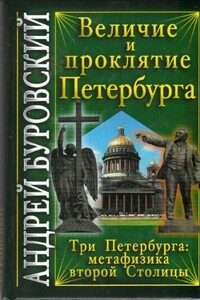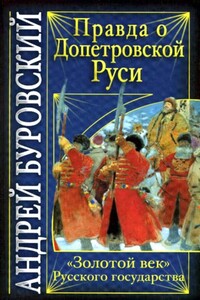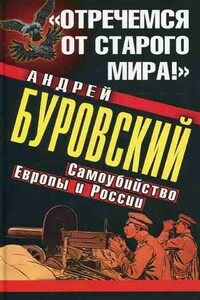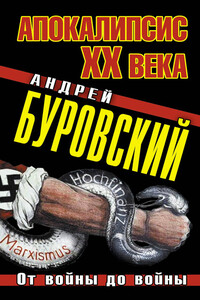Вся правда о Русских: два народа | страница 88
Но в годы Крымской войны он сначала формирует партизанский отряд: на случай, если британцы высадят десант на Балтике, под Петербургом. Опасность Петербургу больше не угрожает, и в 1855 г. Толстой (ему — 38 лет) становится майором в стрелковом полку. В Крым Алексей Константинович не попал — заболел тифом во время стоянки под Одессой. Нет худа без добра — страшно представить себе русскую литературу без этого громадного и доброго таланта. Но сам-то Толстой так не думал.
В рядах интеллигенции немало людей с примерно такими же убеждениями, но ведь служить можно не только России, не только Богу. Интеллигенция формировалась на сто лет позже, когда мир уже изменился и стал намного сложнее и многограннее. Служить можно Красоте и Истине… И уже не обязательно отвлекаясь на спасение Отечества, угодившего в опасность. Служить можно самому себе и своей семье, строя «мещанское счастье», как герой Помяловского [44].
Служить можно отвлеченной идее, служить можно и народу…
Дворянство вроде бы тоже служило народу, но как-то всегда так получалось, что под служением народу оказывалось служение государству. А интеллигенция служила народу так, что обычно получалось служение отвлеченной идее.
Вот чему интеллигенция служит с особым упоением — так это отвлеченным идеям. «Отрыв от народа», «болтливость», «пустозвонство», «непонимание реальности» — это обычные слова, легко бросаемые в ее адрес, — и дворянством Российской империи, и правителями Советского Союза. Но разве это свойственно только одной интеллигенции?
Глава 6
ВЫДУМЩИКИ ИЗ РУССКИХ ЕВРОПЕЙЦЕВ
— Народ этого не позволит…
— Так уничтожить народ!
Ф. М. Достоевский
Весь Петербургский период, весь советский период нашей истории образованный человек естественно находился как бы вне России и лишь частично относился к ее народу. То есть против такого положения восставали много раз, со времен князя Щербатова с его «О повреждении нравов в России». Но все, кому не нравились формулы «дворянство и народ», «интеллигенция и народ», от князя Щербатова до писателей-деревенщиков, оставались критикующим меньшинством, а нормой было именно это — осознавать себя «интеллигенцией», существующей вне «народа».
Стало недоброй традицией считать отрыв от действительности, способность жить в своих надуманных теориях типично интеллигентской чертой. Мол, такая вот она, гнилая интеллигенция. Не буду спорить — у интеллигенции эта черта, бесспорно, есть. Вопрос только, что это такое — интеллигенция, где граница этого слоя? Далеко не все 3-4-5 миллионов «русских европейцев», живущих на земле к началу XX века, считают себя интеллигенцией, но этот отрыв от реальности характерен для них для всех. В том числе и для обитателей царского дворца.