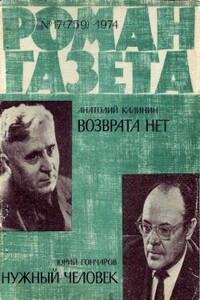У черты | страница 21
Приехавший врач задрал на Генке рубашку и стал осторожно щупать его живот. Сказал: это приступ аппендицита, надо немедленно в больницу. В этой же автомашине, в которой приехал врач, Генку увезли на операцию.
А на второй день, вернувшись из школы, Антон увидел во дворе перед своим подъездом кучку встревоженных жильцов, и, подойдя, узнал, что Генка умер. Аппендицит оказался гнойный, гной уже разлился по брюшине, началось общее воспаление, остановить его не удалось. Пенициллина, который мог помочь, медики тогда еще не знали.
В Генкиной квартире рыдала его мать. Антона послали в аптеку за валерьянкой. Он бежал по мокрому, с последними остатками тающего льда тротуару, нагретому весенними лучами, с поднимавшимися от него белесыми прядками пара, и в голове его, как удары колокола, повторялось: «Гена Сучков умер… Гена Сучков умер…»
Никогда еще Антон не испытывал такого глубокого потрясения. Смерти случались где-то вдали, с людьми, которых он не знал, не видел. По радио называли фамилию какого-нибудь выдающегося деятеля, жившего и работавшего в Москве, Ленинграде, звучала траурная музыка. Иногда приходило письмо от маминых или отцовских родственников, в нем, среди прочего, а то и главной вестью, сообщалось, что умер кто-то из родни или знакомых; мама, отец сокрушались, горевали, но для Антона эти люди были только лишь именами, без облика, каких-либо живых черт; родные места отца и матери были от Воронежа далеко, мало кто оттуда приезжал в гости, поэтому ни к кому из далекой и неизвестной ему родни Антон не чувствовал своей близости, не горюя при их утрате. Иногда в трех смежных домах с сообщающимися дворами умирал кто-нибудь из обитателей, обычно – пожилые, престарелые люди; гроб выносили во двор, ставили на двух табуретках для прощания с покойным. Смерть пугала: провалившиеся, полуоткрытые рты; если летом – то обязательно по губам ползающие мухи, привлеченные гнилостным запахом, синевато-черные круги в глазницах, пепельный, восковой цвет кожи на костяном лбу, запавших щеках. Но покойные тоже были незнакомыми ему людьми, виденными всего раз-другой при своей жизни. Их увозили на катафалках с лошадьми или же на платформах с опущенными бортами фырчавших грузовых автомашин – и он о них скоро забывал.
И вообще смерть представлялась ему так: она бродит где-то там, за пределами его повседневного бытия, и никогда не приблизится, не войдет в круг дорогих и близких ему людей, не коснется его мамы, отца, а уж его самого – эту мысль он и допустить не мог. Даже потом, на фронте, в самых тяжелейших обстоятельствах, когда его стрелковая рота на рассвете с приведенным ночью на передовые позиции пополнением насчитывала пятьдесят, семьдесят человек, а к вечеру – хорошо, если оставалось всего полтора десятка. Одни, вошедшие в список потерь, присыпаны землей бомбовых разрывов, другие – пронизаны пулями немецких, безостановочно тарахтящих «Эм-Га», третьи разорваны на куски минами. Но с ним этого не может быть! Почему – объяснить он не мог, просто было такое упорное, неуничтожимое чувство. Он не может исчезнуть из этого мира, его жизнь так недавно началась, он еще только на ее пороге, еще ничего не видел, не сделал, только и всего, что окончил среднюю школу, – как она может оборваться? В нем такой ее чисто животный, биологический запас, в каждой мышце, в каждом ударе сердца; во всех его ощущениях – перед ним вечность, его жизнь – бесконечна, ей не должно быть и не будет конца…