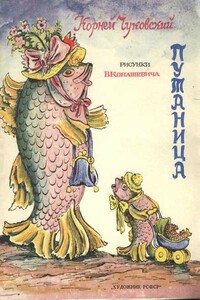Портреты и встречи (Воспоминания о Тынянове) | страница 69
[Там дома, в милой Германии, растет много деревьев жизни, но, как ни манит к себе вишня, птичье пугало еще страшней.
Мы, как воробьи, пугаемся чертовых рож; как бы вишня ни смеялась и ни цвела, мы поем песнь отречения.
Вишни снаружи красны, но внутри в косточках — смерть; только в небе, там, где звезды, вишни бывают без косточек.
Бог-отец, бог-сын, бог — святой дух, которых славит и величает паша душа, по тем вишням от века тоскует бедная немецкая душа.]
В узких пределах этих четверостиший чрезвычайно рельефно выступает характерная черта стиля Тынянова: широта диапазона в выборе смысловых средств, оттенков значения, специфических форм (от церковнославянского звательного падежа «бог отче», «бог сыне» — вместо литературно нейтральных «отец», «сын» — до народно-песенного «вишенье», употребленного наряду с привычным «вишня», и неожиданно контрастного сочетания «скудельной рухляди») и известная парадоксальность в сочетании всех этих элементов. Что же касается составных рифм, то, как нетрудно заметить, роль их в переводе даже усилена по сравнению с оригиналом. Там всего один случай подобной рифмовки, и менее заметный (в четвертой строфе: ewiglich — Seele sich), в русском же тексте вторые двустишия двух последних строф замыкаются составными рифмами, богатыми, броскими и, главное, иронически оттеняющими смысловой контраст между сопоставленными понятиями (»всевышний — все вишни», «рухляди — дух, лети»).
Формальное мастерство Гейне, как бы блестяще оно ни было, никогда не остается самоцелью; оно, как и у всякого истинно великого поэта (вспомним Маяковского), глубоко содержательно: за каждым отклонением от привычной нормы словоупотребления, за каждым нарочито примененным старинным словом или заимствованием из иностранного языка стоит та или иная оценка событий и лиц, упоминаемых в данном месте. Эта содержательность поэзии Гейне ставит переводчику ответственные задачи, и Тынянов, как я другие выдающиеся переводчики Гейне, разрешал эти задачи не формально. Тонко чувствуя роль, выполняемую тем или иным элементом подлинника, он нередко заменял этот элемент иным, а иногда в каком-либо месте компенсировал в усиленной степени то, что в другом месте было ослаблено.