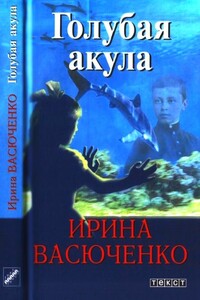Жизнь и творчество Александра Грина | страница 34
Это было отвратительно. Зато теперь, раскаявшись, впали в противоположную крайность. Прежние бранные слова «мещанин», «обыватель» зазвучали почтительно, порой и хвастливо. Иные журналисты даже подписывают так брюзгливые газетные статейки, не замечая, что это смешно. И грустно. В таком хронически больном обществе, как наше, любое новое проявление глупости больше удручает, чем смешит.
Превозносить обывателя не стоит. В его непрезентабельном портрете, детально разработанном советской литературой, правды куда больше, чем нам бы хотелось. Иное дело, что у нас самому тупому, злобному конформисту полагался титул «простого труженика», «мещанином» же объявлялся тот, кто не угодил властям. Однако будем справедливы к Грину: уж он-то не причастен к словесному шулерству подобного рода. Что до романтического презрения писателя к «золотой середине», нравится оно нам или, напротив, возмущает, важно понять, что здесь к чему.
Вспомним для начала, что Грин вырос в той самой стране, где мы с вами живем. Не стоит верить тем, кто теперь утверждает, будто все ее несчастья от большевизма. Его победа не была бы возможной, если бы и тогда страна не томилась от застарелых недугов рабства и невежества. Тяжелые больные часто попадают в лапы к разного рода чудотворцам с большой дороги. Большевизм и был таким наглым лекарем-самозванцем, щедрым на кровопускания, ядовитые пилюли и сладкие посулы.
Грину довелось повидать и конец старого, и начало нового режима. Если общество всегда держится на людях, подобных его персонажу, мог ли он не заметить, что держится оно плохо? Исторические события, свидетелем которых он был, давали для таких размышлений богатую пищу. Но Грин не был бы Грином, если бы в своих наблюдениях задержался на одних отечественных бедах. Ведь его, в отличие от нынешнего брюзги по псевдониму Обыватель, занимали вопросы не быта, а бытия. Не политики, экономики, распределения благ, а духа. В его книгах живет ощущение не российского, а мирового неблагополучия. Его герои, даже самые беспечные, остро сознают трагизм человеческого удела. Стоит лишь вчитаться повнимательнее, чтобы убедиться, что и тогда, когда они вовлечены в круговорот увлекательных событий, их не покидает это сознание. Именно ему они обязаны своим иногда поразительным душевным равновесием. Даже в порывистом желторотом Санди из «Золотой цепи» уже есть печальный стоицизм, между прочим, сближающий Грина с экзистенциалистами. При знакомстве с творчеством Камю, Сартра и некоторых других западных авторов двадцатого столетия не так уж трудно заметить это родство.