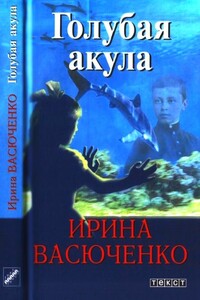Жизнь и творчество Александра Грина | страница 20
это пророчество, на котором (прислушайтесь!) даже у блоковского стиха перехватывает дыхание, внимательный читатель без труда вычитывает из динамичной, красочной прозы Грина. Писатель рано понял, что такое тоталитаризм. Чтобы в этом убедиться, достаточно прочесть его первые, еще без сказочного налета, рассказы о маленьких людях, об армии и войне, об эсерах-подпольщиках. Это не лучшее из созданного им, творческий почерк еще не установился, но умение смотреть вглубь уже примечательно.
Вслед за Гоголем, разглядевшим мечущийся в петербургской вьюге мстительный призрак человека, которого заставили быть маленьким, Грин видит страшное в человеке улицы. Голодный, как, к примеру, в рассказе «Малинник Якобсона», или тупо, до отрыжки сытый, как в «Лебеде», он одинаково опасен, потому что обездолен духовно. Под его неказистым обликом затаился бес-разрушитель, он зол сладострастно, его изувеченной душе от красоты и добра не нужно уже ничего, кроме их унижения и гибели.
С революционерами все иначе, но тоже страшно. Самые благие намерения не спасают людей, подчинивших совесть партийной дисциплине, заменивших сложную жизнь духа простой устремленностью к общей цели. Их существование становится иллюзорным, братство при малейшем разногласии взрывается ненавистью, товарищество чревато взаимной слежкой. Молодые идеалисты, чистые и отважные, превращаются в шайку истеричных убийц, и такая метаморфоза воспринимается как следствие неумолимого природного закона.
Что до военных рассказов Грина, таких как «Желтый город», «Баталист Шуан», «Тайна лунной ночи», они способны удивить и нынешнего читателя, а для своего времени, если вдуматься, невероятны. Краткие, написанные суховато, особенно на фоне обычно такой богатой гриновской образности, они примечательны не столько тем, что повествуют о случаях странных и жутких, сколько свойственным автору восприятием войны.
Грину безразличен старинный спор, не утихнувший и поныне, считать ли войну героическим взлетом патриотизма или тяжкой, черной работой людей долга, для которых кровь и смерть поневоле становятся будничными. В его прозе война не то и не другое, она — безумие. Ощущение чудовищного, апокалиптического бреда только усугубяется репортажной деловитостью тона рассказав, точностью дат и географических названий. «Был вечер двадцать пятого марта 1919 года, — так начинается „Желтый город“. — В маленьком бельгийском городке, называвшемся Сен-Жан…» Рассказ о человеке, попавшем в город, где среди руин остались только трупы и сумасшедшие, занимает всего полторы страницы. Но их оказывается довольно, чтобы заставить читателя поверить в такой финал: «На короткое, но роковое мгновение жизнь показалась ему страшным сном, который необходимо оборвать. Он поднес револьвер к виску и спустил курок».