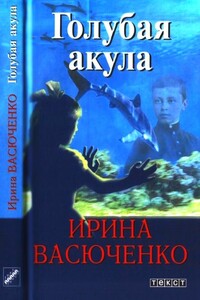Жизнь и творчество Александра Грина | страница 16
В нашей стране, по понятным причинам, их узнали поздно. Зато европейских читателей середины века они поразили сразу. И не столько оригинальным переосмыслением традиции (хотя это было), сколько хватающей за сердце непохожестью на что-либо читанное ранее и правдой выраженной там драмы современного сознания.
Знали ли они, что в России у них был удивительный предшественник? Бог весть. Рожденный всего на двенадцать лет раньше, чем появился на свет автор «Властелина колец», Грин умер, когда оксфордский профессор Толкиен лишь приступал к созданию знаменитой трилогии. Но когда Толкиен рассуждает о том, зачем нужна человеку Волшебная Страна, и усматривает в сказке, помимо многого другого, выражение «самого древнего и глубокого желания человека — осуществить Великое Бегство от реальности, а значит, от Смерти», почти все это мог бы сказать о своем творчестве Грин.
Почти, но не все. Одна из причин отличия, как мне кажется, в том, что Толкиен видит мир глазами верующего, Грин же, по-моему, был скорее агностиком. Вопрос об его отношениях к религии сложен. Многое, о чем пойдет речь, будет близко затрагивать его, но пытаться однозначно разрешить такой вопрос здесь было бы ненужной дерзостью.
В частной жизни Александр Степанович, не являясь образцовым прихожанином, отнюдь не был и безбожником. Перед смертью он исповедался и причастился, даром что не простил по христианскому обычаю большевиков, а очень по-гриновски ответил священнику, что они ему «безразличны». Его хоронили по церковному обряду, из-за чего многие из тех, кто оплакивал эту утрату, не посмели присоединиться к процессии — по тем временам само присутствие на такой церемонии уже вызывало недовольство властей.
Но то, что в житейских обстоятельствах может выглядеть простым и очевидным, в творчестве обретает иные черты. И мир, созданный художником Грином, мудрено уложить в рамки православного канона. (Впрочем, подозреваю, что Александр Мень не увидел бы здесь непреодолимых трудностей, на то он и был не обычным служителем церкви, а крупным религиозным мыслителем двадцатого столетия). Грин же был сыном своего века — времени величайшего всемирного, а не только отечественного кризиса христианской культуры. Не его вина, если «страшный» город, кошмар его юности, одинаково давил громадами тюрьмы и собора. Видно, тот собор походил на тюрьму больше, чем это пристало дому Бога, который «есть Любовь».
Читая Грина, чувствуешь, что обещания бытия за гробом были темны его сердцу, будущее со своим научно-техническим прогрессом не рождало поэтического вдохновения, настоящее… настоящее было то самое, о котором его современник Саша Черный, известный сатирический поэт и глубокий, по-моему, недооцененный лирик, в одном из горчайших стихотворений, прося у Бога небытия, сказал: