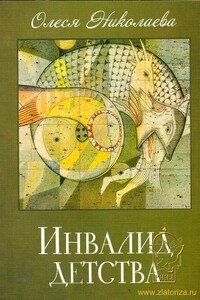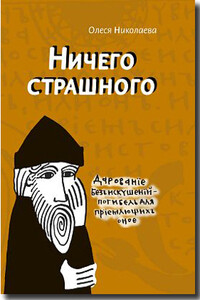Тутти: книга о любви | страница 90
– Прямо в Переделкино и доставлю. Только у нас тут трагедия. Все уже к ней привыкли, обцеловали, обкормили. Знаешь, просто страшно переживают. Женщины даже плачут. Такая веселая собачка, такая ласковая! А главное – она уже и не помнит тебя – так ластится ко всем, так радуется!
– Как – не помнит?
– Нет, ну, может, вспомнит еще… Действительно, поначалу она все плакала, все к тебе рвалась, искала, ждала… А сейчас привыкла, полюбила тут всех. Хорошо ей. Может, у тебя будет теперь скучать…
– Да? Так мне что, может, не забирать? – растерялась я, и дрогнуло сердце. Качнулось, как мятник, туда-сюда.
Вот оно, порочное двоящееся произволение, исчадие всех грехов! Именно здесь коренится зло – в непостоянной, неустойчивой, противоречивой, превратной человеческой воле.
– Ну, как хочешь, тебе выбирать. Но ей здесь хорошо. Она счастлива.
– Нет, ты мне скажи: да или нет? – жалобно пролепетала я. – Как скажешь, так и будет. Тут еще папу кладут в госпиталь с подозрением на инфаркт.
– Слушай, – сказал он, – смотри на это прагматически. Нужна тебе собака – я привезу. Не нужна, не можешь ты за ней ухаживать, папу кладут в госпиталь – я с радостью ее оставлю себе. Ну, подумаешь, приблудилась к владыке эта собачка, он думал: кому бы ее отдать? – и отдал тебе, а ты отдала ее мне. В чем проблема?
Проблема в том, подумала я, что Тутти – это сокровенность, с которой приходишь на Страшный суд. Тутти – это то, как мы когда-то шли с моей бабушкой к половине восьмого утра в детский сад через мост с Кутузовского в Девятинский переулок, где сейчас храм Кизических мучеников, и было еще темно, и мне пять лет, и валил косой снег прямо в лицо, и ветер задувал с реки, аж свистел, гремел, и мы обе были еще сонные, и бабушка, такая хрупкая, в черных ботиках, которые кнопкой застегивались на тонкой щиколотке, в легком демисезонном, песочного цвета пальто, придерживала рукой поднятый воротник, и ветер сорвал с нее шапочку, и куда-то понес, поволок, но она не побежала за ней, потому что другой рукой крепко держала меня, и было пустынно, таинственно, и не было вокруг ни души, и снег был синеватого цвета, как будто все было заколдовано, мерцание какое-то вдалеке, и так не хотелось расставаться с моею бабушкой; и что-то мучительное было в этом движении – вперед, вперед, и в то же время сладкое, ведь бабушка все еще шла со мной, и опять мучительное, потому что уже показывался купол недействующего этого храма, где детский сад; и все еще блаженное, потому что бабушка все еще была здесь… И я шла рядом с ней и думала: «Вот я такая маленькая, а у меня уже так много было всего!» А потом – словно порвалась пленка, и я не помню уже ничего.