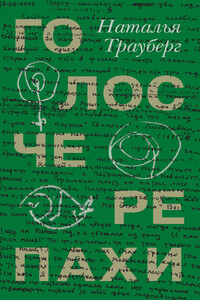Сама жизнь | страница 78
что в Бога он не верит, Тоша Честертона полюбил и перевел два стишка. Они напечатаны неоднократно – в романе и в Тошином двухтомнике. Сейчас повторю одну строчку:
Ибо жалеет наш Господь свою больную страну.
(Послание скорее – от Тоши; у Честертона – «большую» или даже «великую», но Т., видимо, не разобрал моего подстрочника.)
Стихи эти почему-то больше читали тут, в первые, нищие годы освобождения.
Перед самыми этими годами, осенью 1983-го, мне стало совсем плохо. Я отказалась от очередной работы – не самиздатской, издательской, почти не вставала; все это было и непозволительно, и невыносимо. Несколько лет я знала, что на севере Литвы живет и служит алтарником архиепископ Винцен-тас Сладкявичюс, молитвенник и экзорцист. Тогда, буквально только что, ему дали кафедру в Кайшядо-рисе, между Вильнюсом и Каунасом; говорят, что тогда же он тайно стал кардиналом. Мне посоветовали поехать к нему. Я поехала; и он сказал: «Потерпите, это кончается». Была осень 1983-го, день св. Терезы, 15 октября. Прибавил он и очень важные слова: после, когда оно кончится, не гневите Бога. Будет не рай, будет жизнь, а сейчас ее нет. (Конечно, пишу не буквально, но смысл этот.)
В одной нынешней английской статье сказано, что «против течения истории» встали, среди прочих, «бывший актер преклонных лет, дочь бакалейщика, портовый электрик и польский Папа – поразительное, истинно честертоновское содружество».
После поездки к Сладкявичюсу я тяжело заболела. Это он, кстати, предполагал заранее: «Сейчас надо болеть, надо страдать и посвящать все это». Вот они, интенции. Ближе к весне, уже передвигаясь, я пересказывала его слова молодому литовскому диссиденту, который пришел и плакал, больше не было сил. Когда я пересказала и дала ему папский розарий, он встал на колени и поцеловал крест. Стыдно это писать? Да. Надо? Наверное, надо. Позже, в начале 1991-го, именно этому человеку запертые в Сенате литовцы поручили составить эмигрантское правительство (он случайно был, кажется, в Дании), но, слава Богу, это не понадобилось.
Сами цифры «1984» перечеркивали возможность жить. Мы вернулись в Москву из-за семейных дел. Стояла жара, время остановилось. Сотни раз я пересказывала начало «Наполеона Ноттингхильско-го» – Честертон заверяет там, что через 80 лет после 1904 года (когда он это писал) будет вполне человеческая жизнь, и три клерка спокойно пройдут через парк, зайдут в кафе… Взял Оруэлл саму цифру отсюда или нет, англичане спорят. Но тот, кто ее выдумал – что-то видел (посмотрите, как развивается «Наполеон»). Видел перелом времени, ничего не скажешь.