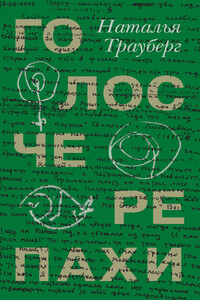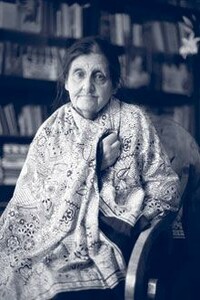Сама жизнь | страница 58
Словом, в наборе статей не хватает одного – ясного и честного взгляда и на себя, и на оппонента. Не у всех, не в каждой статье, но где не хватает, там не хватает.
Известно, что иудаист не вправе делать того, что опозорило бы его веру. Попробуем и мы так. Что же выйдет? Как тогда участвовать в споре?
О тех, кто считает себя шире христианства, видимо, нам рассуждать не надо. Мы – не шире; нам, с нашим «узким путем», сокрушением, личным Богом, многого тут не понять и не вместить. Почитать их праведность мы можем, жалеть их – просто должны, как и всех людей, а споры с ними бесплодны и как-то особенно утомительны. Иногда сами они, вдобавок, высокомерны, с такой снисходительной нотой. Это понятно; они не считают, что вместе со всеми заключены под грехом, и мы для них – просто непросветлённые, что верно: мы, в лучшем случае, -предающие, но очень любящие Христа. Однако в этой полемике такой ноты нет, и на том спасибо.
Говорить мы можем только от имени слабых, но христиан. Вот и поговорим, а то слишком странный облик христианства возникает у несчастных людей, читающих наши статьи.
Почему мы чем правоверней, тем грубее? Нет, не тверже, именно грубее. Почему мы путаем милость и кротость – вещи вызывающие, дикие, оскорбительные для мира – с попустительством и распущенностью? Злоба и грубость – куда легче, тут не нужна Божья помощь, и мир им меньше противится. Собственно, он им вообще не противится – он ими живет.
Возьмешь газету, журнал или сборник – всюду одно и то же. Вот человек от имени православия спорит с теми, кто приравнял мавзолей к раке с мощами. Они неправы, тут спора нет, но как он о них пишет! Точно так же, как в конце 1940-х писали про космополитов. Даже слово «господин», специально употребляемое для вежливости, превращается в издевку. Всё там есть: и «некто», и «наш либерал», и множество иронических кавычек. За рамки стиля вырывается совсем уж странная фраза: автор точно знает, что «посмертная судьба тов. Ульянова ‹…› давно определена». Где здесь отточие – слова о том, что ничего неизвестно об его христианском покаянии.
Вот именно – неизвестно. Трудно хуже меня относиться к советской власти, но это – одно, то – другое.
Таких статей невероятно много, есть и погрубей. Что же выходит? Сокровищ православия, ничуть не «этнографических», совершенно евангельских, никто в этих статьях не найдет. Во тьме советской жизни были люди, которые несли и передавали немыслимую кротость, благоговение перед тайной, странное смирение, ничуть не похожее ни на слащавость, ни на бесхребетность. Когда они видели зло, они молились и страдали, в крайнем случае – тихо и твердо возражали, подтачивая его самым верным, евангельским способом. Они умудрялись воспитывать внуков, впечатывая в них особую жалость к «другим», лучше всего выраженную в словах «не ведают, что творят». Стоит ли об этом говорить? Казалось бы, всем известно,