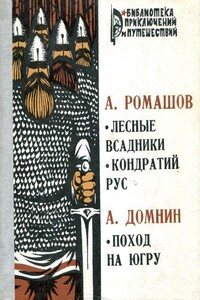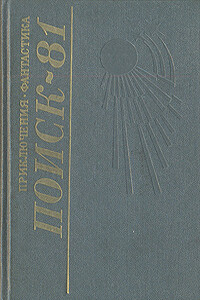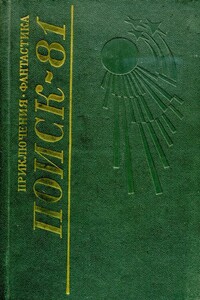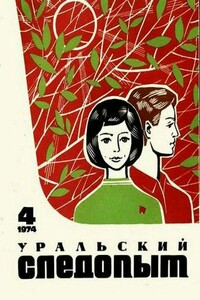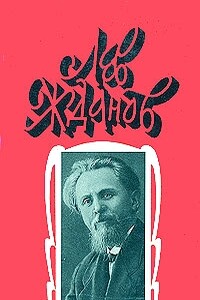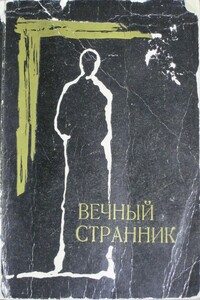Матушка-Русь | страница 50
Не сдержалась Агафья, протиснулась вперед, бросилась к кузнецу:
— Самошенька! Ненаглядный ты мой!..
Помрачнел Самошка, хочет отстранить женку — и не может, У самого затуманились и покраснели глаза. Утер украдкой.
— Погоди малость, дай сказ окончить… Слышь, погоди…
— Пускай доскажет, — уговаривают Агафью люди. — Уж больно за душу берет.
Отошла покорно Агафья, закрыла лицо платком, только плечи от рыданий вздрагивают.
Морщится Самошка, шмыгает носом. И уж такая обида взяла его за судьбу свою горемычную, что голос стоном прорвался, зазвенел высоко и громко. О князьях полоцких заговорил он — о первых зачинщиках всех раздоров:
— Верно сказываешь, книгочей. Наши головы в крамолах ложатся, — пробасил вдруг гневно могучий смерд.
— Не мешай, дай дослушать…
— Чего не мешай! Поди, у самого в животе тошно.
Вокруг зашумели, заволновались.
— Доколе горе мыкать?!
— Тиун княжий едет! — тревожно выкрикнул кто-то.
— Прячь, — кивнул смерд Самошке на книгу.
Кузнец сунул книгу за пазуху.
Толпа быстро поредела.
Тиун, румяный, в красном кафтане, раздвигал конем людей.
— Откуда народ? По какому случаю?
— Старик женку продает, — весело ответил смерд. — Да никто не зарится — уж больно хлипкая.
Свистнула плеть, вспыхнула на щеке смерда багровая полоса.
— За что?
— Мало? — спросил тиун, но смерд уже нырнул под брюхо лошади, исчез в шумной и пестрой базарной толпе.
Агафья схватила Самошку за руку и увлекла за собой.
Они шли по торжищу — маленький растрепанный кузнец и дородная женка. Ни о чем не спрашивала его Агафья. Боль и радость боролись в добром бабьем сердце.
Самошка придерживал под рубахой у пояса тяжелую книгу, замазанную и потрепанную…
…Мечом земли покоряют, песней сердца.
Пепелит она пуще огня, разит острее сабли, ласкает нежнее лады-девицы. Слушающий ее да не найдет покоя и не будет жить в тишине.
ЭПИЛОГ
Засиделся отец допоздна, думая о судьбе древнего сказания, названного «Словом о полку Игореве». Единственная рукопись, вернее — список его, выполненный на лощеной бумаге неизвестным летописцем XIV века, погиб во время Московского пожара при вступлении в столицу наполеоновских войск. И осталось у нас две копии, снятые с него книголюбом Мусиным-Пушкиным.
Об авторе «Слова» не знаем мы почти ничего. Только по самому произведению можем судить о его таланте, взглядах, жизни. Не сомневаются ученые, что был он участником трагического похода и близким Игорю человеком, что был человеком большой культуры, имел доступ к летописям, знал книжную литературу и устную поэзию своего времени… Но кто же он?