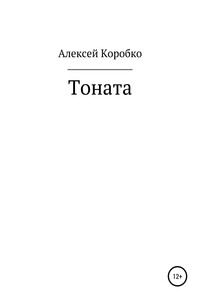Третья правда | страница 93
Священник с тревогой слушал Селиванова. Оболенский смотрел на покойника широко раскрытыми глазами. Сзади послышались шаги и всхлипывания. Подошла Наталья, перехватила руками горло. Черный платок размотался у нее на шее и сполз на плечи.
— Ну вот, — сказал Селиванов, взяв ее за локоть и обращаясь к Оболенскому, — а это сестра твоя, а он, значит, брат твой родной!
— Что? — простонала она.
— Иваном его зовут! В честь отца мать назвала, да уж лучше б не делала того.
Оболенский и Наталья смотрели друг на друга в ужасе.
— Селиваныч, это — правда?! — прошептал Оболенский.
— Хуже правды… — ответил тот печально и, обойдя гроб, стал у изголовья, рядом со священником.
— Ваня, Ваня… — покачал он головой. — Нынче понимаю я, за что тебе жизнь такая выпала! — Он помолчал. — Это ты все мои грехи взял на себя! И расплатился, и помер за меня раньше времени! А всю жизнь думал да гадал: чего леплюсь к тебе, чего цепляюсь? И сам не знал, подлец, что душу чистую приблизил для спасения своего!
Священник тихо возразил:
— Каждый за свои грехи сам ответ держит!
— А у кого их нет, тот чужие на себя берет!
Священник перекрестился и промолчал.
— И муку за ваши грехи, — кивнув Наталье и Оболенскому, продолжал Селиванов, — и эту муку он тоже взял на себя! И, видно, еще что-то, больно много ее было, муки той, для одной чистой души! А чем отплатим ему?! Ваня! Ваня!
Закричав, бросился вон Оболенский. Наталья выбежала за ним.
— Не нужно отчаиваться! — сказал священник. — Жизнь Богом дана, и Он знает, зачем…
— Бог знает, да не говорит! Ведь даже тебе не говорит! А мне уж и подавно не услыхать!
В окно было видно, как подъехала к дому грузовая машина, отделанная черным крепом. Из машины выпрыгнули мужики и стали выбрасывать еловые ветки…
— Ну вот! Выстелят тебе, Ваня, сейчас последнюю твою дорожку хвоёй таёжной… Мне бы, что ли, помереть уж заодно…
7
Был закат. За деревней все лежало уже во мраке, зато она золотилась и сияла, как чудо-град в море-окияне. Особенно светились рябины. А сквозь их листву полыхали кострами окна. Все прео-бразовалось, даже проржавевшая рукоять рябининского колодца и та будто позолотой покрылась.
Селиванов сидел на ступеньке крыльца, и ему казалось, что он — один большой, немигающий глаз, видящий все вокруг, наблюдающий за всем, но никак не участвующий в жизни. Через час-другой стемнеет, люди, что воют песни в доме, разбредутся, и он останется один на один с ночью.
Собаки, привязанные около дровенника, встретившись с его взглядом, чуть шевельнули хвостами, но он никак не ответил им. «Продать их надо!» подумал он. И то, что такая невозмож-ная мысль пришла ему в голову, не удивило его. Ведь как было: когда засыпал могилу, в земле камень оказался, а когда он по гробу стукнул, Селиванов в груди боль от удара почувствовал, потому что хоронил и самого себя. А когда гроб из дому выносили, почему он подумал: «Зачем такой длинный?» — Потому что на себя примеривал! А когда гроб опустили, он долго не мог команду дать, чтоб засыпали… Разве не подумывал рядом лечь? Почему ворчал, что узка могила, — поленились мужики?