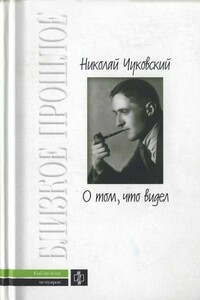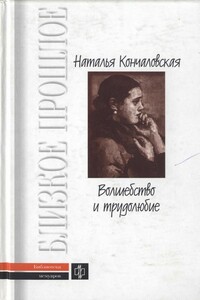Без выбора | страница 20
Однажды проходчики вспомогательного штрека наткнулись на графитовую жилу. Графит — порода хрупкая и потому подлежавшая обязательному креплению. По чьей-то несогласованности я получил разнарядку обработать этот штрек и, прибыв на место, растерялся. Стоило только сунуть мой крюк в трещину, вываливался целый пласт графита и открывал под собой другие трещины, и не было тому конца… Вдруг увидел у входа в штрек фонари, какие-то люди шли сюда же, я двинулся им навстречу и за пару метров узнал моих литовцев-крепильщиков. Первым шел отец. На отличном русском он спросил, чего я тут делаю, и когда я объяснил, они обменялись горготанием, покачали головами, и он же сказал, что нарядчик, видимо, совсем больной, если придумал такое, что они сейчас осмотрят участок, потом пойдут за материалами, установят крепления, а я могу топать отсюда. Два других моих объекта еще пару часов могли числиться в загазованных, и я изъявил желание помочь крепильщикам. Меня, по крайней мере, не прогнали, и это было уже что-то…
Осмотр продлился недолго. Исключительно по жестам я понял, что принято решение сплошной крепежки не делать, а установить три бревенчатых переплета и перекрыть потолок толстой доской. Нужно было притащить девять бревен. На бревно по два человека. Я, как шестой, оказался очень даже к месту, осмелел и сам предложил себя в пару отцу. Материал находился в другом штреке, и, чтобы попасть туда, нужно было дать крюк метров четыреста. Бревна решили протащить по сбойке, соединяющей оба штрека. Двадцать метров по сбойке и тридцать до груди забоя — пятьдесят вместо четырехсот. Сбойка была не расчищена от породы, и только на четвереньках мы пробрались в соседний штрек. Зато обратно ползли на животах по кускам руды, завалив бревно на спины. Всего-то двадцать метров, а запомнились как двести. Плохо ошкуренное бревно то скатывалось с плеча, то заваливалось на голову, царапая уши и шею, да и тяжесть… Он, отец мой, привыкший и закаленный — ему хоть бы что, но всякий раз, когда я терял «контакт с бревном», он, ползущий впереди, не дергался и не бранился, не оборачивался даже, но терпеливо дожидался, пока я справлюсь с ситуацией, и лишь после моего толчка продолжал движение. Мы ползли первыми, и я, в сущности, притормаживал всех, — но когда наконец вылезли из сбойки, никто слова не проронил в укор, за что всем им я был благодарен сверх меры. На второй ходке он предложил мне ползти первым, и я подумал, что испытывает, но оказалось, что первым-то как раз легче, потому что развал руды в сбойке образовывал невидимый глазу подъем, и большая часть тяжести выпадала ползущему вторым. На третий раз я в кровь расцарапал шею сучком, и, пока остальные литовцы ходили за инструментами, отец обработал царапину йодом и приклеил пластырь. Позже, в лагерях уже, не раз убеждался я в исключительной практичности литовцев, восхищался умной организованностью поведения и выдержкой, сам, однако, ни одним из этих качеств не обладал, и если завидовал, то, как говорится, беспредметно…