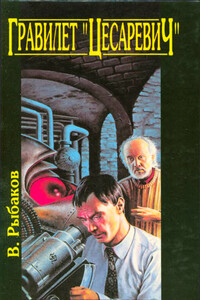На чужом пиру, с непреоборимой свободой | страница 61
Мораль: не позволяйте себе глубоких чувств, живите мелко.
Большинство так и поступает.
Но у нас не получилось.
Наверное, все могло бы пойти иначе, если бы Глеб души в папке не чаял, если бы льнул ко мне, как в свое время я льнул к Симагину; если бы приставал с вопросами и в глаза глядел неотрывно, если бы, как я когда-то, бросался к двери с радостным визгом, заслышав скрежет моего ключа…
Неужели мне настолько хотелось повторить собственное детство, прожить его сызнова, только так, чтобы я был Симагиным, а Глеб — мною? Возможно. Моего детства у меня было слишком мало. Непозволительно, калечаще мало. Каких-то полтора года.
Но он не бросался и не льнул. Маленький ребенок относится к отцу в точности так, как относится к нему мать этого ребенка — особенно если видит отца не так уж много, фактически лишь по выходным, да и то чуть не весь выходной отец молчит, работает. И тут даже не важно, родной это отец или нет. В точности так, как относится мать. А у нас все сделалось принужденно, вымученно, обескровленно и болезненно — и Глеб, разумеется, это ощущал. И к четырем годам уже совсем во мне не нуждался.
Я ничего не в состоянии был поделать — ни словом, ни поступком. Словом — это значило бы совершенно не по-мужски, бессмысленно и до отвратительности жалко низать укоризны и плакаться в жилетку родному человеку, который, хоть ты всю душу изведи на шелестящие гирлянды пустых, как покинутые коконы, слов, ничем ПОМОЧЬ НЕ СМОЖЕТ, ибо тут не единовременный товарищеский поступок нужен — нужно разительно перемениться, стать иным человеком… но если тебе требуется иной — не честнее ли и не добрее попросту, не мучая никого, пойти искать этого другого? А поступком — это значило молча, без объяснений прогнать ничем, в сущности, не провинившуюся передо мною подругу. Что, конечно, с общепринятой точки зрения вполне по-мужски, но с моей — как-то непорядочно.
А тут ещё мой проклятый дар! О котором я никому никогда не мог рассказать. Мои знания — которых я никогда ни перед кем не имел права обнаружить. Они вообще не позволяли отмякнуть ни на миг. Мы засыпали рядом, Кира панически прижималась ко мне, будто встарь; тоненькая, хрупкая, горячая — тут уж, казалось бы, можно впасть в безмятежность. Но я-то отчетливо помнил сверкающее облако самозабвения, на котором почивал вначале! Я-то ещё хлестче ощущал, что рядом со мной — уже не она, не та моя женщина, что прежде; что той моей уже нет вообще, нигде, и никогда не будет больше, словно она умерла! Словно это я сам её убил! Мне-то зазор между поведением и чувством был ощутим ежесекундно!