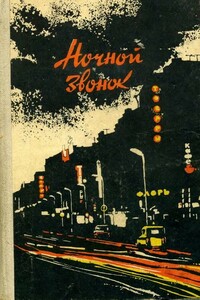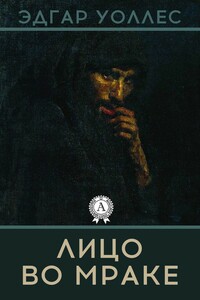Калуга первая (Книга-спектр) | страница 168
"Неправильно относятся к смерти. Я помню этот молчаливый детский ужас перед ней. И вот клоуны: тумаки, падение, боль, слезы. Зрители смеются. И смерть - падение, боль, слезы. Как смеются над прошедшим ужасом, подшучивают над нелепым страхом в темноте, над комичным поведением дерущихся, над безоглядным бегством, как зрители, надрывая животики, хохочут над бедами клоуна, так природа улыбается над нами, над детской боязнью взрослых войти в темную комнату смерти, ей весело, потому что, как и зрителям, комичное является ей в трагичном, и она точно так же прыскает в ладошки, прижатые к неподвластным губам, как двое её малышей у гроба матери; и, быть может, от того она с такой легкостью расстается с младенцами, убиенными, юными надеждами, расплавленными в лаве и исчезнувшими в морской бездне. Она-то знает, что под гримом клоуна прячется совсем иное лицо. В этом её принципе, скорее, законе зрительского смеха над человеческими трагедиями, есть нечто загадочное, что хранит тайну, радостную тайну смерти.
"Мысли текли ровно и казалось - вот-вот - и Кузьма Бенедиктович постигнет все, коснется сердцевины, настанет триумфальный конец и можно будет задернуть занавес,
Но как только он начинал об этом думать, то ощущал резкое покалывание в пояснице и тревожное биение сердца. И в который раз Кузьма Бенедиктович задавался вопросом:
"Может быть, нельзя лезть за кулисы жизни, ибо сама попытка взглянуть на механизмы управления спектаклем гибельна, и поясница предупреждает? И когда примешь, что так же хорошо умереть, как хорошо жить, тогда и сольешься с ней?"
И он смотрел на сосульки, на голые деревья, на талый снег и редкие снежинки...
В окно была видна тропинка к подъезду. Вот из-за угла дома на неё ступила женщина - в черном пальто, вязанной шапочке, походкой конца восьмидесятых. Она быстро шла к подъезду, а Кузьма Бенедиктович узнавал её и холодел, не волен двинуться, парализованный.
Наверное, с того момента у него и начал прогрессировать паралич, наказавший его неподвижностью.
Она, конечно, приехала не за тем, чтобы у Кузьмы, у её единственного Кузьмы, начал прогрессировать паралич. Она и наказать его не сумела бы и не собиралась, она бы исполнила любую его просьбу, попроси он ее; и она приехала не из-за него, хотя и болела им так сладостно и так мучительно долго; она приехала всего лишь к дочери, которая к 2000 году должна была стать матерью.
И она ещё не знает ничего: ни о параличе, ни о главной ошибке Кузьмы и интуиции Веефомита, ни о материнстве дочери. И как ей, непосвященной, узнать, что она ступает бабушкой ещё не родившегося внука, когда в ней самой, горькой и напряженной, ещё не сгорела молодость и не иссякли девичьи слезы.