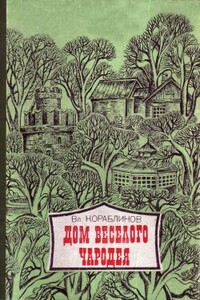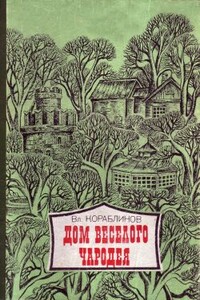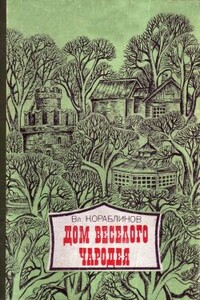Прозрение Аполлона | страница 46
Вот так приблизительно каждое утро проходило у Ляндресов (отцы и дети, старое и молодое, вечный спор поколений!), и никто в семье не придавал особого значения этим беззлобным и немного смешным перепалкам между отцом и сыном, никто не думал, что когда-нибудь случится взрыв, катастрофа.
Это случилось сегодня.
Спозаранку прибежала старшая дочь Фаня, которая была замужем за ювелиром Каменецким, жила на Большой Дворянской и за богатство мужа почиталась аристократкой. Размазывая по красивому туповатому лицу слезы, она рассказала, что ночью к ним приходили чекисты, перевернули вверх дном всю квартиру, нашли в отдушнике чулок с царскими золотыми десятками и увели Каменецкого в тюрьму.
– Ой, Боря! – причитала мадам Каменецкая. – Ой. Боря-Боря-Боря! Какой уже раз его так уводят! Он больше в тюрьме живет, чем дома… Ой, Боря-Боря!
– Сам твой Боря виноват, – строго сказал Ефим. – Нечего было прятать это дерьмо. Он что, маленький ребенок или неграмотный, что не читал постановления губфинотдела о сдаче золотых и серебряных вещей? Сдал бы сразу, своевременно все свои цацки, и пожалуйте! Четыре сбоку, ваших нет.
Фаня перестала плакать и, приоткрыв рот, изумленно уставилась на брата. И тут папа Ляндрес взорвался. Он подбежал к Ефиму и пронзительно закричал:
– Босяк! Босяк! Иди же и целуй свою босяцкую власть, которая грабит по ночам честных людей! Иди, босяк! И чтоб я тут больше не видел твою бандитскую физиономие!
– Абрам! – заплакала мать. – Подумай, что ты такое говоришь, Абрам!
– Не беспокойтесь, уйду! – Ефим решительно отодвинул недопитый стакан молока, надел свою рыжую кожаную куртку, туго-натуго перетянулся ремнем и ушел.
На этот раз он уходил, грозно громыхая своими великанскими башмаками.
Молодость легко и решительно ломает рамки привычной каждодневности, ей нипочем самые крутые житейские повороты. Этим-то она и отличается от зрелости и в этом-то и есть ее бесспорное превосходство.
На темной вонючей лестнице, на грязных, склизких ступеньках двух ее маршей – от второго этажа до выходной двери – еще сжималось, замирало сердце в душной злобе, в мучительном стыду за отца, за этого бедного малограмотного человека-раба, которого вечная нужда, вечный страх за кусок хлеба приучили к бессознательному преклонению перед чужой, недосягаемой собственностью.
Но стоило выйти во двор, увидеть над головою высокое, необыкновенно веселое небо, рваные, быстро бегущие, с золотистой рыжинкой облака, сквозь которые простреливали длинные весенние лучи солнца, стоило услышать звонкую капель и бог весть откуда прилетевший в этот грязный двор синичий свист – и темное развеялось вдруг, разведрилось на душе. Ощущение счастья, какая-то вселенская радость наполнила все существо, все клеточки изумительно легкого, как бы готового к полету тела. Мир был – Весна, Революция, Рита… «Нынче скажу, – подумал Ефим с радостным ужасом. – Нынче обязательно объяснюсь…»