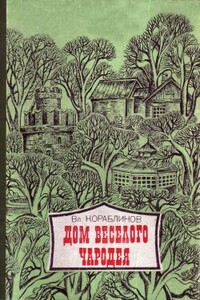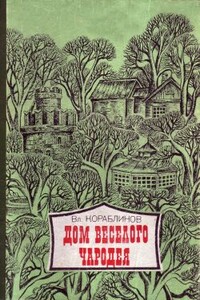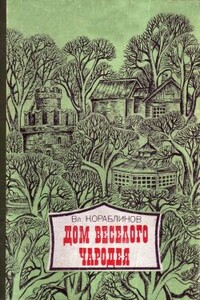Прозрение Аполлона | страница 12
И вот – на паркетном полу передней, среди шлепков грязи, луж, обрывков растоптанной газеты стояли собранные в козлы винтовки. Красноармеец, в обтрепанной шинели с обгоревшей, видимо у костра, полой, в грязно-желтой смушковой шапке, дремал, прикорнув на кокетливом розовом пуфике. На вошедших глянул устало, скучно и тотчас же отвернулся, как бы с досадой.
Тут Иван Карлыч высунул томную свою маску из ванной комнаты, пролепетал: «Боже… Боже!» – и снова втянул голову в дверную щель, как черепаха в панцирь.
Это глупейшее появление профессора Гракха и его бессмысленный лепет разозлили Аполлона Алексеича, настроили воинственно, дерзко. Разъяренный, предстал он перед дежурным по штабу.
И прямо с порога кинулся в бой.
Усатый коротышка рта не успел открыть, чтобы рапортовать, отчеканить по форме, что вот, мол, так и так, неизвестный гражданин задержан на территории… и прочее, как Аполлон божьей грозою обрушился на дежурного.
Топал хлюпающими калошами, кричал:
– Анархия! Вы ответите! Кто вам дал право?
Требовал сию же минуту командира расквартированной в профессорском корпусе части. Грозил жаловаться в Москву, наркому просвещения. Словом, вымещал за все: за дурацкую свою прогулку в город, за Денис Денисычеву икру и чтение, из-за которого припоздал, за изжогу и промокшие ноги, за отсутствие конно-железной дороги и реквизированного мерина, за трусливую идиотскую рожу Ивана Карлыча…
Удостоверение свое, раскипятившись, не подал, а прямо-таки швырнул на стол дежурному.
А тот был чрезвычайно учтив. Бегло взглянув на удостоверение, вскочил, подал стул, рассыпался в извинениях: пардон, пардон, тысячу раз пардон… но профессор должен понять – война есть война, ничего не поделаешь… к сожалению…
Изящные полупоклоны, прищелкивание шпорами, четкая белая ниточка пробора в черных лакированных волосах. «Из гвардейских хлыщей, поганец, – неприязненно подумал Аполлон Алексеич, – жоржик, стерва, сума переметная…»
Однако гнев поутих как-то незаметно, сам собой, испарился, иссяк в брани. Командир части уехал в город; дежурный разводил руками, уверял, что все устроится; и Аполлону Алексеичу ничего кроме не оставалось, как, чертыхнувшись еще разок-другой, как бы закрепив за собой последнее слово протеста, ретироваться с достоинством восвояси. То есть проваливать к чертям, если уж говорить откровенно…
Кроме всего, любопытно было взглянуть – а что же дома-то? Что Агния Константиновна? И что Рита?
И сколько же все-таки из пяти комнат оставлено для обихода собственно профессорской семье?