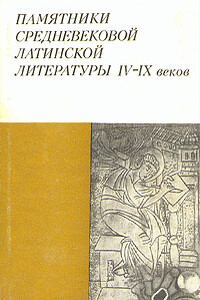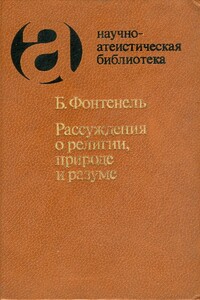Карманный оракул | страница 90
Ларошфуко и не может и не хочет давать советы, практически полезные, «благоразумные» советы. Ведь «единственные ораторы, доводы которых всегда убедительны, – это наши страсти; «их искусство как бы рождено самой природой, а ее законы непреложны» (8). А что до проповедуемого Грасианом ^благоразумия», то ведь «ум всегда в дурачках у сердца» (102), и «философия берет верх над горестями прошлого и будущего, но горести [и страсти. – А. П.] настоящего берут верх над ней» (22) – где уж тут советовать! Да и вообще «ничего мы не раздаем с такой щедростью, как благие советы» (11Ф); «Старики потому любят давать хороший совет, что уже не могут подавать дурной пример» (93). Не мешает, пожалуй, еще подумать и о том, кто пишет «Максимы». Принц Марсильяк, герцог Франсуа VI де Ларошфуко почел бы ниже своего достоинства подвизаться в роли присяжного моралиста-наставника. Для этого хватает бойких проповедников в церкви и многоученых литераторов в печати, самоуверенных советников всякого рода, в сутане или кафтане – при дворах и в салонах. Долголетняя политическая деятельность и участие в бесславной «фронде принцев» показали герцогу, чего стоят доводы разума, когда ораторствуют (порой безмолвно!) партийные и, главное, личные страсти, – прежде всего тщеславие… Наставительным «афоризмам» герцог Ларошфуко предпочитает язвительные «максимы».
В основе всей человеческой жизни, а значит и добродетели, лежит, согласно Ларошфуко, эгоизм – сознательная форма (бессознательного у животных) инстинкта самосохранения, закона природы для всего живого. В антропологии Ларошфуко эгоизм играет, примерно, ту же роль, что «сила», «энергия» в механике и физике XVII в.: это основа всех человеческих интересов, страстей – сил, либо возбуждающих, либо тормозящих натуру. «Сколько ни сделано открытий в стране самолюбия, там еще осталось вдоволь земель неисследованных» (3), предсказывает Ларошфуко, один из великих первооткрывателей этой «страны». У человека, по Аристотелю «животного общественного» и, как известно, «разумного», эгоизм чаще всего принимает форму тщеславия – выдвинуться из всех, «показать себя» перед другим, перед всеми. Этой страсти, «общественной» по преимуществу, служит – невольно, как сами страсти, – и этот «дурачок», «простофиля» (le dupe), самодовольный ум человеческий. Он искусно рядит страсти в высокие, обществом (и самим «героем») восхваляемые «добродетели». В этом разуму часто помогают «робость» и «лень», две силы «тормозящие», в отличие от «возбуждающего» тщеславия, – а потому обычно порицаемые как «слабости», «пороки». «Добродетель никогда не ушла бы так далеко, если бы тщеславие не составило ей компании» (200); «Меж тем как робость и лень удерживают нас в пределах долга, добродетель записывает это на свой счет» (169) и т. д. С беспощадной последовательностью и бессмертным остроумием «максимы» сводят все добродетели, одну за другой, к эгоизму – в трех его лицах, одном главном, возбуждающем, и двух вспомогательных, удерживающих, которые в свою очередь меж собой тоже ловко «играют»: одно выдает себя за другое, будто бы менее постыдное, или даже за добродетель. Например, из тщеславия «мы всего охотней признаемся в лености», выдавая ее за миролюбивую добродетель «умеренности» (398).