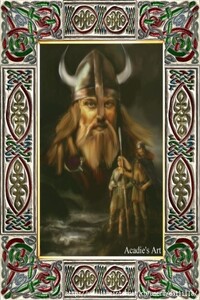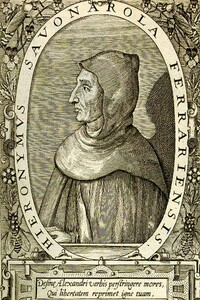Карманный оракул | страница 100
В высшей степени выразителен – национально и эпохально! – афоризм 297-й, один из заключительных: «Поступать всегда так. будто на тебя смотрят» (ибо: «осмотрителен гот, кто смотрит, как на него смотрят – или посмотрят»). В жизненном колорите этого образа – и испанская важность (gravedad), и барочная напряженность («культурное» искусство), и театральность XVII в., публичность «цивилизованного» человека абсолютистской культуры. Как ни далеки друг от друга Грасиан и Расин-, это образ и расиновского и грасиановского театрального человека, но вместо трагедийного сопереживания – у Грасиана дидактика: не расиновское сострадание герою-актеру, но и не ларошфукистское язвительное раз-облачение «актеров» (от слова «акт»: «действующего» человека). В этом афоризме 297-ом – ключ (разумеется, один из «исторических ключей») к постижению того, почему век расцвета абсолютизма, век Шекспира, Кальдерона и Расина был веком высшею, для последующих векоь недостижимого, расцвета европейском! театра, – в обоих основных его жанрах и в трех национальных его вариантах, причем в испанском «театре-чести», в эффектной «комедии плаща и шпаги» – пожалуй, в форме наиболее театрально вынесенной.
«Жизнь – театр» – общее место в европейской литературе XVII в. Но это уже не столько театр жизни космической, который, изумляясь, созерцает в начале «Критикона» ребенок Андренио, когда впервые выходит из темной пещеры на свет божий (глава «Великий Театр Мироздания»), а театр жизни человеческой, театр актера, на которого смотрят – другие актеры и актеры-зрители. Играет Челозек-Умеющий-Себя-Показать («в этом блеск достоинств» – 277), деятельный и практичный «Человек-Удачного-Завершения» (59). Интересы дела неумолимо предписывают сообразоваться с «театральными» условиями: «Не упорствовать» (183), идти на уступки – интересы дела исключают мечтательный максимализм, отвергают испанское toclo о nada («все или ничего» – знаменитый девиз Иоанна Креста), а также откровенность. Нельзя понять апологию скрытности в морали Грасиана (как и обличение маскарада добродетелей у Ларошфуко), отвлекаясь от деспотизма (политического, клерикального, светского) «цивилизованной» культуры века абсолютизма. Девизом жизни для Декарта, современника Грасиана во Франции, было: bene vixit, bene qui latuit – «тот хорошо прожил, кто хорошо скрывал».
Многие советы «Оракула» пронизаны поэтому прагматическим конформизмом: «Применяться к обстоятельствам» (288); «Прилаживаться к каждому» (77): «Жить не споря с веком» (120): «Не ocv^na" один то что нравится всем» (270): «Не доводить до разрыва» (257); «Не лгать, но и всей правды не говорить» (181): «В мыслях с меньшинством, в ре чах с большинством» (43); «Лучше быть безумным со всеми, чем разумным в одиночку» (133). В этом конформизме сквозит и презрение к «большинству»: «Глупы все, кто глупцами кажутся, и половина тех, что не кажутся» (201). «Практичность» грасиановского совета – нередко на грани «макиавеллизма» или переходит ее: «Что пленяет сердца, делать самому, что отталкивает – через других» (187): «Отводить зло на другого» (149); «Пользоваться чужой нуждой» (189): «Залогом твоей репутации да будет чужая честь» (234): «Шелковые слова, бархатный нрав… Одна ароматная пастилка – и уста благоухают» (267); «Не можешь надеть шкуру львиную, носи лисью» (220). Некоторые советы даже удивляют, если вспомнить духовный сан автора: «Распознавать счастливцев и злосчастных, дабы держаться первых, а вторых бежать» (31); «Не губить себя из-за чужого злополучья» (285); «Не только для себя – и не только для других» (252) и т. п.