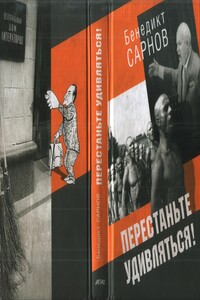Сталин и писатели. Книга первая | страница 57
Я прошу Вас сообщить Л.Д. Троцкому и другим это мое мнение. Надеюсь, оно не удивит Вас, ибо Вам известно, что за все время революции я тысячекратно указывал Советской власти на бессмыслие и преступность истребления интеллигенции в нашей безграмотной и некультурной стране.
Нынче я убежден, что если эсеры будут убиты, — это преступление вызовет со стороны социалистической Европы моральную блокаду России.
М. Горький
(«Власть и художественная интеллигенция», стр. 37-38.)
На письме этом имеется резолюция Рыкова: «Разослать через Секретариат всем членам Политбюро». И — приписка Троцкого: «Предлагаю: поручить редакции «Правды» мягкую статью о художнике Горьком, которого в политике никто всерьез не берет; статью опубликовать на иностранных языках».
За членов ЦК партии эсеров, процесс которых проходил в Москве с 8 июня по 7 августа 1922 года, кроме Горького, вступался Анатоль Франс. Но тем, кто затеял этот процесс, было равно плевать и на Горького и на Франса: из 34 обвиняемых 12 были приговорены к высшей мере наказания и расстреляны.
Все это я вспомнил к тому, что в случае с «Указателем», из-за которого Горький якобы намеревался выйти из советского подданства, все было не так просто, как это представлялось Ходасевичу. Дело было не только во всегдашней склонности Алексея Максимовича к самообману.
Конечно, выходить из советского подданства Горький не собирался (тут Ходасевич был прав). Но написать Ходасевичу об этом своем намерении его побудило не только желание устроить, как выразился Владислав Фелицианович, очередной «театр для себя».
Во-первых, тут действовал некий общий закон. Каждый из нас, вступая в диалог — даже устный, а тем более письменный, — невольно приспосабливается к собеседнику (адресату). Горький был человек гибкий, пластичный, и ему это приспособление к адресату было особенно присуще. В его письмах, скажем, к Е.П. Пешковой перед нами один Горький, в письмах к Зиновию Пешкову — другой, в письмах к Ходасевичу — третий. (О Горьком, который предстает перед нами в своих письмах к Сталину, и говорить нечего. Но это — случай особый, тут, помимо всего прочего, огромную роль сыграла идейная эволюция, которую проделал А.М. за пять лет, прошедшие с того момента, когда оборвались его отношения с Ходасевичем и начались его отношения со Сталиным.)
Это инстинктивное приспособление к адресату, которое сразу бросается в глаза, когда читаешь горьковские письма, ярче всего выражается в той языковой маске, в которой он в каждом таком случае предстает перед нами. Но к такому собеседнику, как Ходасевич, Горький приспосабливался не только стилистически, но и, так сказать, идеологически.