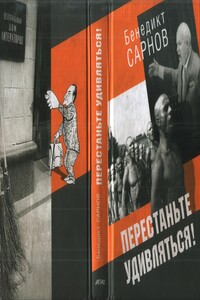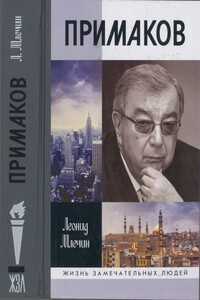Сталин и писатели. Книга первая | страница 18
Но — мало того! — в своей попытке вырвать генерального секретаря из привычной для того системы мышления он идет еще дальше, гораздо дальше: пытается напомнить ему, что их объединяет и еще нечто, стократ более существенное и более неизбежное, чем государство: «Мы все приговорены к одному и тому же: к смерти».
И Солженицын, и Бродский в своих обращениях к «вождям» взывают к ним извне, из другого языкового, стилистического и смыслового поля. Горький, в отличие от них, находится внутри сталинского языкового и смыслового поля, сталинской системы мышления. И самое печальное тут то, что происходит это совсем не потому, что он в этих своих письмах и записках подделывается под Сталина, подыгрывает ему.
Я не понимаю и не люблю, когда придают какое-то особенное значение «теперешнему времени». Я живу в вечности, и поэтому рассматривать все я должен с точки зрения вечности. И в этом сущность всякого дела, всякого искусства. Поэт только потому поэт, что он пишет в вечности.
(Л.Н. Толстой.)
…правитель, дающий свое имя моменту истории, должен быть полностью поглощен этим моментом. Он должен нырнуть в волны этого момента и стать неотличимым от него сильнее, чем какой-либо другой человек. Ибо обозначение эпохи является делом именно правителя, и он появляется на марках или монетах своей страны. Правление, поскольку оно персонифицирует эпоху, всегда противоположно деяниям Вечности.
(О. Розеншток-Хюсси. Великие революции:
Автобиография западного человека. (USA).
Hermitage PaUishers, 1999, стр. 184.)
В свете этих двух высказываний становится особенно ясно, что я имел в виду, сказав, что Солженицын и Бродский говорят с вождями на разных языках, а Горький со Сталиным — на одном.
Солженицын в своем обращении к вождям, как и Горький, тоже как будто всецело озабочен проблемами «текущего момента». Но взывает он к ним, обсуждая этот «текущий момент», — из вечности:
Невозможно вести такую страну, исходя из злободневных нужд… Вести такую страну — нужно иметь национальную линию и постоянно ощущать за своими плечами все 1100 лет ее истории, а не только 55 лет, 5% ее.
Вечность Солженицына короче вечности Бродского, — этой его вечности отмерен точный срок (1100 лет). У вечности Бродского нет сроков:
Умру я, пишущий эти строки, умрете Вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению.
Эта грустная реплика почти дословно повторяет то, о чем говорит Державин в своей предсмертной, «грифельной оде»: