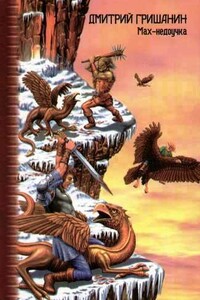Мультипроза, или Третий гнойниковый период | страница 23
Но молчал Федор Иваныч, лишь качался – весел, голубоглаз.
Тогда заглянули в стол к нему и снова ахнули.
Ни единой бумаги, ни одного графика, ни одной диаграммы роста, пустые ящики – только печать в уголку да рядом дохлый хамсенок.
Скрутили его активисты, стерли в порошок, рассовали по баночкам и, весело перекликаясь, вышли из жэка.
– Солнце-то к вечеру! – сказал Майский, отдуваясь.
– И трамваи визжат на поворотах как оголтелые, – сказали активисты другие. – Пора за Булгаковым в ночь выходить...
16. Кишки Потекоковой на службе Добра
Одной из первых кто вышел в ночную очередь за Булгаковым была небезызвестная Тихомирова со своей противотанковой каталкой.
До этого ей снился сон.
Явился перед ней Булгаков. Тихомирова вскричала:
– Ой, Михаило Афанасич, золотистый ты наш!
Она упала, всхлипывая, стала целовать башмаки писателя, бормоча при этом:
– Воланд, любимый наш народный, как там поживает? А Понтя с Филаткой?
– Встаньте сейчас же с колен, о господи! – громовым голосом сказал писатель.
Он бережно взял под руки Тихомирову, поднял и поцеловал теплым поцелуем.
Итак Тихомирова обогнула коробки домов, пересекла пустырь, влезла на глиняный косогор, на котором стояла дощатая кривая какая-то каптерка, без окон, без дверей, с непонятной выцветшей вывеской типа «Вторбытсоцтыцсырье».
– Что ли, первая я здесь? – с изумлением сказала она себе самой.
И только сказала она это, как изо всех щелей – из-под бревен, из-за ящиков, из-за бугров и бетонных плит – стали выползать тучами люди советские.
– Ага, какая ты одна на всем земном шаре умная! Не первая ты здеся, а тысяча первая!
И они, злорадно хихикнув, стали обратно расползаться по щелям: стелить там себе на ночь.
Тут, кстати сказать, из ближних кустов, из густеющих сумерек, из-за автобуса с подольским номером вышел голодный человек с огромным рюкзаком за плечами, подумал-подумал, протянул руку и посадил в рюкзак старуху Воинову, которая прикемарила. Он понес ее в ближние кусты, он понес ее в слабые золотистые сумерки, он понес ее за автобус с подольским номером; он притаился там...
Возможно готовился еще один случай социалистического каннибализма, если учесть, что люди в Подмосковье в те годы были еще голоднее, чем люди в Москве.
Тут выскочил откуда-то дурень Мешков с криком:
– Я – он! Он! Лелин!
Он встал, протянув руку, он по-доброму сощурился, глядя на человека с рюкзаком, и являлся теперь как бы человеком с прищуром.
Человек с рюкзаком посадил и Мешкова в рюкзак и Мешков там притих.