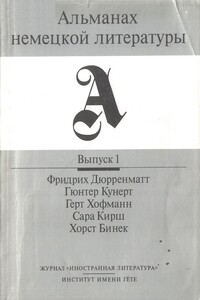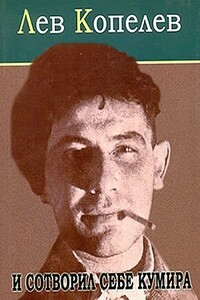Хранить вечно. Книга вторая | страница 22
Он был очень пригож, «соловей Унжлага», избалован женщинами и откровенно самовлюблен. Он капризничал, томно хандрил и смертельно трусил, пугаясь начальства, блатных, заразы…
Московская балерина Сонечка, худенькая, умненькая, влюбчивая - Ш. жаловался, что она его преследует, - сидела уже почти семь лет, - из десяти, - как ЧСР (член семьи репрессированного). Ее мужа, командира корпуса, расстреляли в 1937-м. В Кеми она работала на лесоповале, потом заболела, стала подругой врача-заключенного, он ее сделал медсестрой, а в Унжлаге она «вернулась на сцену». Она была балетмейстером и сама выступала в концертах, с народными танцами. Когда ей разрешили исполнить соло «Умирающего лебедя» Сен-Санса, она плакала от счастья, репетировала по ночам, а после концерта слегла на неделю - нервное истощение. В больнице она работала сестрой в бараке мамок.
- Знаете, физически это нетрудно, у нас почти все здоровые девки, да если кто заболеет, рядом другие корпуса… Но морально такой ужас… Это невозможно себе представить.
Но я понял ее в тот вечер, когда «центральная труппа» показывала спектакль «Власть тьмы» на маленькой сцене в столовой больницы. В этой столовой кормились только обслуга, немногочисленные работяги и мамки, и она была куда меньше, чем столовые рабочих лагпунктов, где в каждую из двух-трех смен усаживалось по нескольку сотен едоков.
В зрительном зале преобладали женщины. Меня пригласил Коля Ш., игравший Никиту. Он очень хотел «показаться» профессиональному критику-москвичу. Я еще только начал ходить по корпусу, но перед его натиском не устоял бы, наверное, и паралитик. Тайком от докторов я пошел на спектакль, в чужих штанах, чужом бушлате и с забинтованной головой - для тепла и для маскировки. Сперва я блаженно радовался всему. Неимоверная давка, толчея, брань, чадный дым самосада; зрители сидели на скамьях, на полу, на столах, сдвинутых к стенам. Но вот и здесь, и этих злосчастных людей влечет искусство…
Занавес из какой-то пестрой дерюги с аляповатыми картонными аппликациями тронул неожиданным сходством с театрами 20-х годов, с самодеятельными «синими блузами». На сцене, в крохотном тесном пространстве, были вполне пристойные декорации, состряпанные из нескольких фанерных щитов и холстин. И самая большая радость - живое толстовское слово.
Вот только публика… Рядом со мной усталые работяги передавали из рукава в рукав махорочные бычки. Хриплый шепот:
- Сказано вам, здесь не курят.